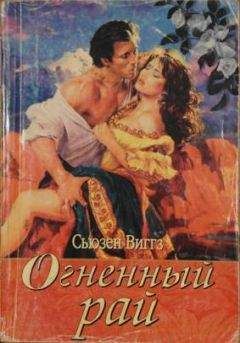— Не понимаю, сэр, — нахмурился Эштон. — Мы ни в чем не нуждались.
— Да, сын, но на это были свои причины.
Казалось, невидимая тяжесть сжимала ему грудь, и каждое последующее дыхание требовало от него все больше сил.
— Пришло время серьезно поговорить, сын, — прошептал он. — Не стоит переживать из-за меня. Я прожил более, чем заслуживаю. Достаточно долго, чтобы увидеть, как ты превратился в настоящего ответственного человека… — Приступ кашля прервал его слова. Эштон наклонился и взял отца за плечи. Роджер дал ему знак снова сесть на стул. — Единственное, о чем сожалею, так это о том, что так мало тебе дал.
— Это неправда. — У Эштона сжалось сердце. — Ты дал мне жизнь. И прекрасное образование. Я горжусь тобой, отец.
Роджер снова приподнял руку, давая ему знак молчать, и вздохнул — его дыхание напомнило шелест сухих листьев.
— Я часто сомневался, правильно ли я поступил, когда много лет назад привез мать и тебя сюда.
— Ты вынужден был сделать это — для католиков в Англии сложилась невыносимая обстановка.
— Да, — согласился Роджер. — Слава Богу, в Ньюпорте нет никаких религиозных предрассудков. Синклер Уинслоу, англичанин, взял меня к себе управляющим конюшнями, ценил мое умение обращаться с лошадьми и смирился с моим вероисповеданием.
— Так и должно быть. — Эштон заметил печальный взгляд отца и понял, что Роджер вспоминает свою жизнь в Кенте.
Роджер Маркхэм научился обращаться с лошадьми не на чужих конюшнях: владея загородным поместьем, держал охотничьих собак для знати, приезжавшей туда на охоту. Но все пошло прахом с появлением лорда Стургроува, фанатичного ненавистника католиков. Роджер мог бы сохранить поместье, если бы отказался от своей веры, но он выбрал тернистый путь изгнанника.
— Ты поступил благородно, это был смелый поступок, сэр.
— Не такой уж смелый, — возразил Роджер. — Разве много нужно смелости, чтобы ухаживать за скотом другого хозяина? Твоя мать так и не смогла пересилить себя и делать то, что считала ниже своего достоинства, — так ведут себя настоящие леди.
Эштон смотрел на свои руки — смутные воспоминания о матери мелькнули у него в голове: она умерла во время родов, дав жизнь Кэрри, а Эштону в то время исполнилось всего пять лет. Он вспомнил ее сидящей у окна, казалось, неспособной понять своего неугомонного сына, с радостными воплями носящегося по саду.
— Отец, — спросил Эштон. — Почему ты больше не женился?
— Да, — свистящий смех вырвался у больного из груди. — После того, как поездишь на чистокровной лошади, трудно пересесть на обычную клячу. Но что ты скажешь о себе? — Роджер прищурил глаза. — Тебе пора жениться, сын.
Эштон отвел взгляд.
— Я не могу ничего предложить своей невесте. — Он беззаботно засмеялся, стараясь скрыть горечь.
— Принеси коробочку с моими четками, сынок.
Эштон подал ему четки, желая, чтобы отец нашел успокоение в нитке бус из оливкового дерева.
— В коробочке есть еще кое-что, — добавил Роджер. — Свадебное кольцо твоей матери. — Эштон извлек небольшое золотое колечко, ровное и блестящее, несмотря на долгие годы. Матери не пришлось очень долго носить его. — Ручаюсь, что любая девушка была бы рада иметь такое. Ты очень похож на мать. От меня ты унаследовал чутье к лошадям, а от Бога — уверенность в себе. И ты называешь это ничем?
— Но я ни разу не встречал, чтобы привлекательная внешность и уверенность в себе давали человеку еду и одежду.
— Да, конечно. — Улыбка исчезла с отцовского лица, глубокие складки залегли на лбу. — Что будет с вами, с американцами? Гражданская война — ужасная вещь.
— Это уже не просто возмущение, а вооруженный мятеж. Создана настоящая Континентальная армия, генерал Вашингтон осаждает Бостон.
В глазах Роджера мелькнул неподдельный интерес.
— Ты собираешься уехать отсюда, Эштон, не так ли?
— Буду здесь, пока нужен тебе.
— Нам обоим известно, что мне осталось немного жить.
— Папа…
— Ничего, сынок. Выслушай меня. Ты собираешься тоже сражаться, Эштон?
Ему вспомнилась военная муштра, безразличие офицеров, праздность и жестокость, царившие в их полку.
— Убедился, что ненавижу армию. Но я и не лоялист[4].
— Значит, ты патриот?
— Пусть сражаются мятежники.
— Тогда куда же ты собираешься уехать, сын?
Эштон замолчал, его взгляд застыл на масляной лампе, в которой уже осталось несколько капель жира. Действительно, куда ему уехать? Где можно хорошо устроиться? Помимо школы, он получил приличное образование, Роджер привил ему манеры настоящего джентльмена, хотя не дал ни копейки денег. От горьких размышлений его отвлек доносившийся шум волн, и в голове возникли другие звуки скачки лошадей и шум толпы: ему часто приходилось участвовать в них в Наррагансетте и под крики толпы пересекать финишную линию на самых лучших породистых лошадях.
— Стану наездником, буду участвовать в скачках, — быстро ответил он. Эта мысль уже приходила ему в голову. — У меня уже сложилась хорошая репутация. Я знаю, как нужно побеждать. И есть люди, которые хорошо за это платят.
Соломенный матрац зашелестел под Роджером.
— По крайней мере, останься на этот сезон — нехорошо оставить мистера Уинслоу без управляющего конюшнями в середине сезона. Ты сможешь за это время подготовить Барнэби Эймза. Не поверю, что ты бросишь сейчас Корсара.
Эштон заколебался.
— Не разделяю твоей преданности Уинслоу, но было бы несправедливо оставить жеребца без призов в этом сезоне.
Выражение тревоги исчезло с лица Роджера. Он лежал такой довольный и счастливый, что у Эштона защемило сердце.
— Большего не могу и желать, сынок, — улыбнулся отец.
Эштон видел, что силы Роджера убывают. За последнее время к нему приходили три разных доктора. Но и врачи, и Гуди Хаас считали положение безнадежным и не могли оказать никакой помощи. Болезнь легких прогрессировала и съедала его последние силы. Чувство пустоты и одиночества охватило Эштона. Не в силах ничего сказать, он крепко сжал руку отца, желая передать ему часть своих сил.
— Кэрри… — Роджер слегка приподнял голову.
— Ее здесь нет, папа.
Роджер опустился на подушку.
— Позаботься о ней, сынок. Не позволяй ей делать глупости.
Эштон кивнул.
— И не суди ее слишком строго.
— Хорошо, папа.
Роджер уснул на несколько часов. Эштон прибрал в комнате, заправил маслом лампу. Отец проснулся с блуждающей улыбкой на лице, слезинка скатилась по щеке, но, странно, в его взгляде не было печали; послышался вздох, а затем сквозь потрескивание лампы раздался слабый голос: