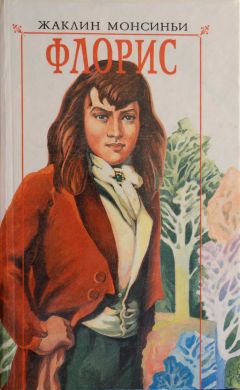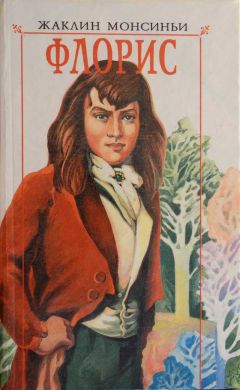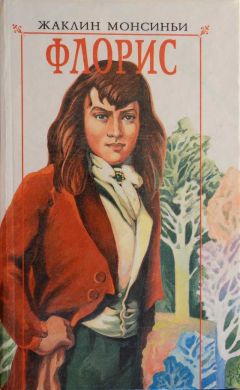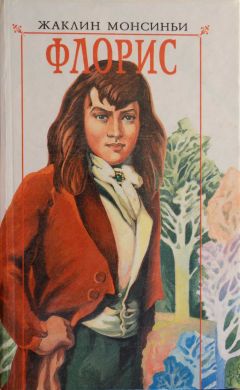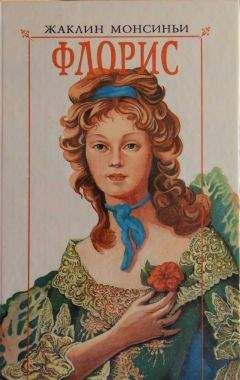Никто из присутствующих даже не попытался улыбнуться, и министр продолжал:
— После смерти царя Петра, которого все упорно продолжают именовать Петром Великим, императрица Екатерина, его жена, взошла на трон и правила вместе со своим любовником Меншиковым. Уже в то время некоторые из тех горделивых русских, которых мы хотим сейчас убрать, начали поговаривать о том, что престол должен перейти к дочерям царя, или к его внуку. Они также говорили о каком-то незаконном сыне царя, следы которого не найдены, поэтому его в расчет мы не берем. Наконец, после кончины Екатерины, бояре возвели на трон царя Петра II — сына царевича Алексея, убитого… может быть, своим собственным отцом, и внука дражайшего царя, — усмехнулся Миних.
В комнате было душно, в огромной печи, облицованной белыми и голубыми изразцами, вовсю горел огонь.
Вдохнув глоток горячего воздуха, он продолжал:
— Этот молодой человек оказался достаточно воспитанным, чтобы быстро умереть от болезни, и его заменила ваша августейшая тетушка, герцогиня Курляндская, которая с помощью заговора наконец-то убрала от российского трона этих ни на что не способных русских. Став царицей, герцогиня Курляндская не забыла своей любви к Пруссии и Австрии, и выдала вас замуж за принца Ульриха Брауншвейгского: теперь ваш двухлетний сын, его величество Иван VI, является царем. Таким образом, вы стали регентшей и будете управлять Россией до совершеннолетия вашего царственного сына. Поймите меня, ваше высочество, канцлер Остерман и я — мы безраздельно преданы вам, но эти русские, упрямые и невежественные, выдумывают всякие байки и вздор о последней дочери Петра Великого.
Утомленный столь долгой речью, Миних без приглашения опустился на стул. Но, похоже, в этой любимой комнате императрицы правила этикета утрачивали свою силу. Принц Брауншвейгский с блаженным видом играл с собачками, а регентша нежно ласкала щеку своей фаворитки. Остерман продолжил:
— Мы совершили большую ошибку, предоставив царевне возможность спокойно жить во дворце. Подождем еще немного, а за это время подыщем ей хороший монастырь, пострижем в монахини, и в конце концов она простудится или неудачно упадет… Что же касается этих злосчастных французов, то мы просто обязаны их принять. Позже у нас будет время поразмыслить. А чтобы не утомлять ваше высочество, мы возьмем все хлопоты на себя — его светлость премьер-министр и ваш скромный слуга, преданный вам вице-канцлер…
Миних мрачно посмотрел на Остермана. Когда речь шла о разделе власти, они прекрасно умели договариваться друг с другом, однако оба старых интригана никогда не упускали случая пожаловаться, когда речь шла о какой-либо милости или о важной государственной должности, отданной одному из них. Однако сейчас красноречие их пропало даром: утомленная долгими разговорами регентша уснула на плече мадемуазель Менгден, нежно гладившей волосы своей покровительницы; супруг Анны Леопольдовны тупо взирал на эту сцену.
— О! Какие красивые мундиры!
— Это иноземцы!
— Скорей сюда, Игорь Константинович, вы только посмотрите!
— Маменька, похоже, это французы.
— Папенька, а какие они из себя, эти французы?
— Они красивые, душка.
— Посмотри, Нина, молодой барин послал мне поцелуй.
Стайка молоденьких крепостных девушек прыснула от смеха. В восторге от переполнявших их чувств, Флорис и Адриан открывали для себя Петербург.
— Вот мы и прибыли к Нарвской заставе, господин чрезвычайный посол, — заявил генерал Бисмарк, с неудовольствием наблюдавший за нараставшим энтузиазмом встречавшей посольство толпы. Адриан смерил его насмешливым взглядом. Кажется, молодой человек был единственным, кто догадался, какие мысли теснились в голове у генерала. Флорис был слишком занят: он посылал воздушные поцелуи девушкам, толпившимся по пути следования кареты; маркиз величественным жестом разбрасывал золотые луидоры, отчего число восторженных криков мгновенно множилось, а Жорж-Альбер ловил брошенные им букеты цветов и с довольным видом раскланивался по сторонам. Генерал сам организовал торжественный въезд посольства, однако он не предполагал, что встреча окажется столь бурной. К тому же он плохо знал маркиза де Ла Шетарди. Впереди посольской кареты, запряженной шестеркой лошадей, по приказу маркиза ехали литаврщик и восемь трубачей, за ними следовали лакеи в парадных голубых ливреях, расшитых по швам золотым позументом и с вышитыми золотыми лилиями на обшлагах рукавов, затем «гайдуки», вернее, слуги-французы, одетые в венгерские костюмы — последний писк версальской моды… Замыкали шествие пажи и курьеры, получившие приказ выкрикивать во весь голос: «Дорогу его превосходительству господину чрезвычайному послу Франции».
Русские не понимали ни слова из этих криков, но, заслышав весь этот шум, выбегали из своих лачуг или из маленьких избушек, построенных из дерева или кирпича[7], и бежали навстречу кортежу, чтобы насладиться неожиданным и бесплатным зрелищем. Генералу ничего не оставалось, как разместить следом за этим помпезным шествием сто императорских гвардейцев в зеленых мундирах с позолоченными бранденбурами, а еще дальше — пятьдесят рослых гренадеров Преображенского полка. Солдаты по двое в ряд ехали за каретой посла. От самой Риги путешествие походило на триумфальное шествие.
Флорис высунулся из кареты, чтобы разглядеть канал Фонтанки и раскинувшееся вокруг предместье, именуемое в просторечье «соляным островом». Он был необычайно взволнован, ему казалось, что он только вчера покинул эти места: все здесь было ему знакомо.
— Мы проезжаем Вознесенский проспект, — прошептал он. Молодой человек сам удивился: как он, будучи малолетним ребенком, сумел сохранить у себя в памяти мельчайшие детали; Флорис не осознавал, что Максимильена провела здесь несколько лет. Он вновь услышал нежный голос матери, во Франции рассказывавшей ему о России:
— Я уверена, сын мой, что в один прекрасный день вы вновь увидите купола Москвы и взмывающие в небо золоченые шпили Петербурга, его мраморные дворцы и каменные башни. Вы вновь вдохнете полной грудью западный ветер, что проносится над глубоководным Балтийским морем. Да, Адриан, дорогой мой, да, Флорис, любовь моя, вы увидите Ладожское озеро, где зимой вы катались на коньках; чистые воды которого питают весной великую Неву. Вспомните, милые мои, о Дубино, о нашем мраморном дворце на Мойке, о петербургских ночах.
В детстве, когда их мать начинала так говорить, у Флориса и Адриана становилось тяжело на сердце.
— Да, дорогая матушка, вы можете радоваться, — шептал Флорис, — ваши сыновья вернулись сюда, но вернулись сиротами.