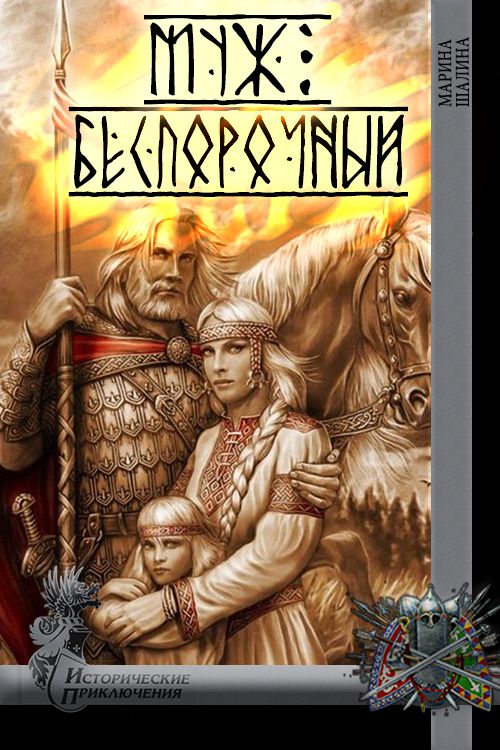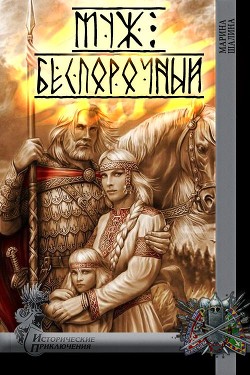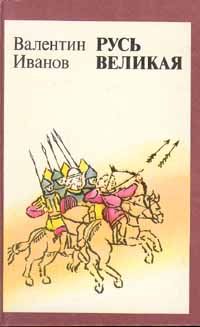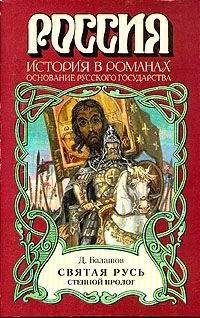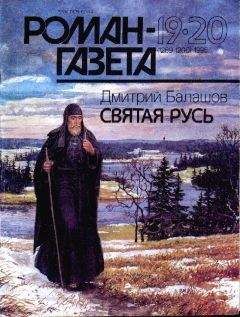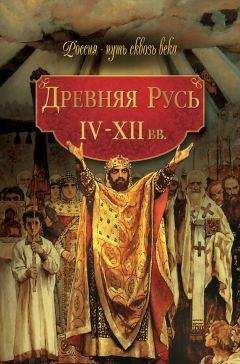и озабоченные, как бы ему угодить. Самая хорошенькая, конечно, Данюшка, еще Забавушка-солнышко, еще Милана, еще боярыня Потвора, Морозова жена, немолодая, но собой видная и весьма обаятельная, еще тихая женщина, которую все завали Яросветихой, красовитая, но замученная постоянными заботами о своих четырех дочках, и восхитительно солившая рыжики.
Милану Ростислав не видел несколько лет, с самой ее свадьбы, и теперь только удивлялся, до чего она переменилась. Она все так же походила на сестру, но двадцатипятилетняя Любава была утонченной, чувственной, томной, а ее младшая сестра — проще и строже. Нельзя сказать, чтобы она казалась старше своих лет — ослепительная кожа и лебединый изгиб шеи не дали бы прибавить и лишнего дня к ее двадцати; но внимательный взгляд замечал на прекрасном лице печаль и мудрость зрелой, много испытавшей женщины.
Все время, пока Ростислав неспешно выздоравливал в Светыне, Милана оставалось рядом с ним, ни разу не заикнувшись, что ее ждут дома. Ее тонкие пальцы уверенно и ловко касались ран; под этими же пальцами расцветали на полотне дивные многокрасочные цветы. Милана вышивала сорочку для своей дочки, которую ласково звала Заюшкой. Кто-то мог бы сказать, что такой наряд слишком богат для двухлетней крошки, и что шить его дольше, чем носить, только не Милана. О Заюшке она была готова рассказывать часами, расцветая счастливой улыбкой. Ростислав, который с некоторых пор засматривался на каждого встречного малыша — также часами готов был слушать, а однажды спросил, отчего же не подарит она мужу еще дитя. Милана вдруг вспыхнула, но тотчас же вновь острожела ликом и ответила: «А если нет ладу, как и детям родиться?» — так, что Ростислав больше не решался расспрашивать.
Забава тоже была прехорошенькая, но уж никак не женщина, девочка — жавороночек, серебряный колокольчик. С умилением Ростислав слушал, как важно Забава рассказывает древние предания:
… И в один день родовичи увидели, как вышел из леса прекрасный белый лось с огромными рогами, и сразу дался людям в руки. А те решили принести дивного зверя в жертву пресветлому Хорсу, потому и отвели его в хлев, привязали там, и заперли на два засова. А в веси той жила одна девица, и была она первая красавица, умница и рукодельница, пела дивные песни и лучше всех была в хороводе, а еще была она добрая и несчастная. Стало девице жалко белого лося, и ночью, когда все уснули, вышла она из дома, отперла засов, отперла другой, отвязала белого лося и говорит ему: «Выручи меня, братец лось, выдают меня замуж за немилого. Спасу я тебя от лютой смерти, и ты спаси меня от горькой доли, унеси далеко отсюда, чтобы не нашел меня жених нежеланный».
Сказала так, села белому лосю на спину, за рога ухватилась, и помчался лось как стрела, через леса темные, через поля широкие, через реки быстрые, и прибежал лось к Белому озеру. Вошел белый лось в воду, и обернулся лось прекрасным юношей. Тут девица в воду и плюхнулась, потому как держаться-то стало не за что! — неожиданно заключила Забава и сама рассмеялась звонче всех. — Ну а потом, понятно, стали они жить-поживать да добра наживать, и пошел оттуда род Белого Лося.
Очаровательное создание была эта Забава, и, конечно, предстояло ей сделать счастливым какого-нибудь парня, только не сейчас, через годик — другой — третий, потому что разве пятнадцатилетней девчонке впору дом да семью вести? Ей, заботы не зная, веселиться, хороводы водить, да, может целоваться тайком — за уголком. Так рассуждал зрелый муж Ростислав, совсем забыв, что Любаве расплели косу [45] как раз в день пятнадцатилетия, рассуждал потому, что Забава могла быть вполне подходящей невестой ему самому.
Не зря ведь Некрас постоянно твердил: княже, присмотрись к Морозовым! А что, род был хороший, почтенный, не особенно богатый, но многочисленный и дружный, ни с кем не имевший кровной вражды. Род исконно белозерский и ни одной веточки своего раскидистого древа за пределы земли не выпустивший, а это значило, что никто из князей-соперников не окажет на него давления. К тому же род Белого Лося теперь был связан с князем Ростиславом определенными узами: Вадима, спасшего ему жизнь, Ростислав взял к себе отроком. И сама невеста обладала всеми достоинствами: и красотой, и умом, и добрым нравом, и отменным здоровьем. Кроме одного: Ростислав охотно болтал с Забавой, пожалуй, не прочь был бы чмокнуть ее в пунцовые губки, мог представить ее чьей-нибудь, да даже и своей, невестой, вот только женой не видел, и все тут.
Еще Ростислав, не откладывая далеко, начал учить Вадима. Конечно, для того, чтобы преподавать воинскую науку, Ростислав еще был слишком слаб, и пока рассказывал то, что необходимо знать будущему воину, да гонял туда-сюда, присматриваясь. Хороший был мальчик, понятливый. Послушный. Хотя Ростислав был не из тех, кто покорность почитает за первую из добродетелей. Бывает и так в жизни, что надо не повиноваться, а думать своей головой; от того, бывает, зависит сама жизнь, да не только твоя. Вадим, судя по всему, относился к тем, кто умеет думать. Когда Ростислав рассказывал отроку про былые сражения, чертя прутиком по снегу, тот, зачастую, видел ошибки еще до того, как учитель на них указывал, а то и предлагал свои варианты. Было у него то чувство момента, которое жизненно необходимо полководцу.
Еще он был хорошо сложен, увертлив, для своего возраста достаточно силен и — как заметил вездесущий Некрас — вполне пригож собой, что было немаловажно. Ведь дружина — это не только наиболее боеспособная часть войска, но и парадная княжеская свита. Словом, отрок Вадим обещал со временем сделаться отличным воином, а то и воеводой.
* * *
Вот так и текло время. А в один прекрасный день… день действительно был прекрасный, что часто бывает на исходе зимы. Солнечный луч дробился в мелком переплете окошка. Ростислав валялся на постели, прямо поверх беличьего одеяла, думал о какой-то приятной ерунде, и не сразу заметил, что в горнице есть кто-то еще. Женщина, возникшая словно из ниоткуда, была не просто стара — она был древней, как сама земля, настолько древней, что прожитые годы как бы слились, делая возраст неразличимым: восемьдесят лет, сто, может, и триста. Спадавшие на плечи косы были седыми до желтизны, коричневое худое лицо и руки изборождены бездонными морщинами, а вот глаза — прозрачные и ясные. Старуха была закутана в накидку, из такой же ткани, как и понева, ткани грубой, с крупными и неровными, как