Страх оказался сильнее желания. Любое наше движение, любой скрип кровати сразу же достигнут ее ушей. За другой стенкой слышалось подозрительное шушуканье. Я очень не хотела, чтобы чужие уши слушали то, что принадлежало нам двоим. Я приникла к уху Дэниела и прошептала:
— Давай займемся этим завтра, когда они все встанут.
Дэниел сжал мне руку, давая понять, что согласен.
Я вспоминала свободу той ночи, когда мы отдавались друг другу, накрывшись плащом. В нашу законную брачную ночь такой свободы у нас не было. На нас накатывали волны желания, но мы лежали молча и неподвижно, даже не касаясь друг друга.
Утром мать Дэниела и его сестры потребовали от нас простыню со следами крови, чтобы вывесить в окне как победный флаг, подтверждающий добропорядочность нашего брака. Дэниел отказался.
— Зачем это нужно? Не люблю я эти старые обычаи.
Девчонки промолчали, но посмотрели на меня так, словно знали, что между нами не было никакой близости и что Дэниел, скорее всего, не испытывает ко мне никакого желания. Взгляд миссис Карпентер говорил о другом. Нежелание сына вывесить простыню после брачной ночи подтверждало ее опасения, что я лишилась невинности еще раньше, и Дэниел взял в дом не добропорядочную девушку, а шлюху.
Скверная брачная ночь сменилась унылым брачным утром. Как назло, родня Дэниела весь день безотрывно торчала в доме. Нам с Дэниелом оставалось лишь пригасить наши желания, поскольку еще пара ночей прошли так же, как и та.
Через несколько дней я научилась лежать под мужем неподвижно, словно бревно, а он научился получать удовольствие молча и быстро. Прошло еще несколько недель, и наши любовные слияния стали совсем редкими. Та головокружительная ночь на палубе корабля казалась недостижимым счастьем. Увы, мы не могли предаваться любви ни на морском берегу, ни в поле. А дома нас всегда ожидали четыре пары любопытных женских ушей.
Я начала ненавидеть себя за то, что вообще испытываю плотские желания к мужу. Ведь каждый скрип кровати, каждый вздох, каждый звук поцелуя — все это сразу же улавливалось и потом придирчиво обсуждалось свекровью и золовками. Мне было ненавистно, что четыре женщины лезут туда, где им совершенно нечего делать, вторгаются в мир, принадлежащий только нам двоим. Как-то утром, после ночи нашего торопливого и молчаливого слияния, когда Дэниел спускался вниз, я заметила довольную ухмылку на лице его матери. Она смотрела на сына так, как крестьянин смотрел бы на племенного быка или жеребца. Ночью мы старались вести себя очень тихо, но я не удержалась и слегка вскрикнула от наслаждения. Миссис Карпентер явно слышала этот крик и обрадовалась. Как же! Ее сын «сделал свое мужское дело». Я для нее была не более чем коровой, которая вскоре должна принести приплод. Ей было не до моих чувств. Она гордилась тем, что устроила жизнь сыну, и теперь у него, как у всех добропорядочных людей, есть своя семья.
После этого я перестала спускаться вниз вместе с Дэниелом. Мне было противно смотреть на любопытные лица его сестер и ловить их немые вопросы: «Ну как, у вас сегодня было это?» Иногда я вставала раньше всех и шла на кухню разжигать очаг и готовить завтрак, а иногда специально валялась в постели и ждала, когда Дэниел позавтракает и уйдет.
— А ты все не можешь оставить свои придворные привычки? — однажды язвительно спросила Мэри. — Наверное, во дворце завтракали не раньше полудня?
Миссис Карпентер махнула рукой, требуя от дочери закрыть рот.
— Не приставай к Ханне. Ей нужно отдохнуть.
Я удивленно взглянула на свекровь, не поверив своим ушам. В первый раз миссис Карпентер встала на мою сторону, оборвав язвительное замечание Мэри. Вскоре я догадалась: она защищала не меня, Ханну. Она защищала даже не жену Дэниела, хотя все, что принадлежало Дэниелу и было связано с ним, всегда воспринималось с восторгом и гордостью. Миссис Карпентер милостиво позволяла мне отдыхать, надеясь на мою беременность. Она жаждала внука — еще одного мужчину для Дома Израилева, маленького продолжателя рода Дизраэли. И если ребенок родится скоро, пока у нее еще достаточно сил, она будет воспитывать его, как своего сына. Она нависнет над ним заботливой наседкой, она постарается как можно раньше вдолбить в его головку свои представления о жизни и потом будет с гордостью говорить: «Это малыш моего сына. Вы ведь знаете моего сына? Да, он — врач, и очень успешный».
Если бы не моя трехлетняя служба при дворе, я бы сейчас отчаянно сражалась, отстаивая свои права. Однако я видела, слышала и выдерживала такое, чего они и представить не могли. Я знала: стоит мне пожаловаться Дэниелу, и его жизнь превратится в ад. Он сразу же почувствует себя виноватым и начнет сомневаться в своих способностях быть главой большой разношерстной семьи.
Дэниел был еще слишком молод и слишком многое относил на свой счет. К тому же ремесло врача приносило ему свои огорчения, когда он видел перед собой обреченного человека, которого был не в силах вылечить. Как и всякому мужчине, ему хотелось видеть свой дом островком спокойствия и согласия, а не полем битвы. Он ничего не знал о женской зависти и злости; я же при дворе вдоволь насмотрелась всего этого.
И потому я молча сносила колкости его сестер, а тех раздражало все, что бы я ни сделала. Я покупала не тот хлеб. Берясь что-то готовить, я лишь «переводила добро». Еще сильнее их злили мои испачканные типографской краской пальцы и книги на кухонном столе. Я молчала. Я помнила, на какие ухищрения пускались женщины при дворе, только бы снискать внимание королевы. Повторяю: я успела очень много узнать о женской злости, о мелких и крупных гадостях, которые женщины делали друг другу. Я только никак не ожидала, что столкнусь со всем этим вне двора.
Отец, как мог, пытался меня защитить. Он нашел мне переводы, и я частенько сидела за прилавком его магазинчика, переводя с латыни на английский или с английского на французской. Со двора вкусно пахло бумагой и типографской краской. Иногда я помогала ему печатать, но миссис Карпентер встряла и тут. Она тыкала пальцем в каждое пятно от краски, случайно попавшей мне на передник. А уж если пятно оказывалось на платье, сетований хватало до вечера. Посовещавшись с отцом, мы решили, что будет лучше ее не злить.
С какого-то времени я стала замечать, что мать Дэниела меня откармливает. Она подкладывала мне лучшие куски, угощала жестковатой французской курятиной и мясистыми, приторно-сладкими персиками. Я не верила во внезапно изменившееся ее отношение ко мне, но не понимала, что ей от меня нужно. В конце августа, устав от моей непонятливости, она сама завела разговор.
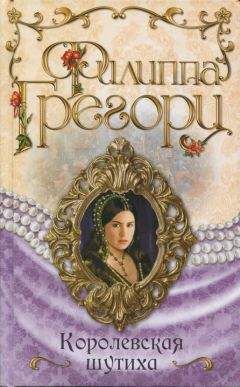
![Натализа Кофф - Воровка, или Противоположности притягиваются[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/11549/11549.jpg)


