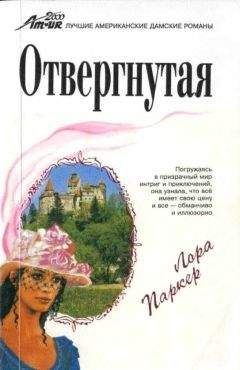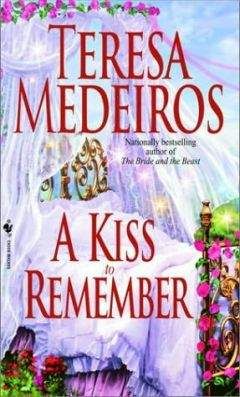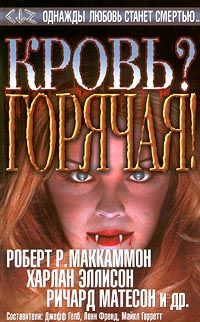4
Нью-Йорк, май 1875— Вы негодяй! Вы подлец! Вы… вы мошенник!
Эдуардо Таварес без особого труда увертывался от шелковых подушек в восточном стиле, которые швыряла в него Филадельфия, но смех мешал ему. Когда приступ смеха прошел, он перепрыгнул через спинку дивана, за которой скрывался, и повалился на диван, услышав, как она с удовлетворением объявила:
— Так вам и надо, шарлатан!
— Мемсаиб перестала сердиться?
— О, нет! — Она схватила еще одну подушку, но обнаружила, что запас их исчерпан. Тогда Филадельфия схватила с ближайшего столика фарфоровую вазу и угрожающе занесла ее над головой. — Как вы могли встречать меня в таком виде, что ваша собственная мать не узнала бы вас. Вы могли обнаружить себя вчера на вокзале. Так нет, вы скрывались под этим дурацким костюмом и позволили мне изнывать от страха. Если бы вы сейчас не обратились ко мне «сеньорита», я бы так и не знала! Вы заслуживаете того, чтобы вас забросали камнями.
Эдуардо встал на ноги, но не сразу выпрямился, поскольку его тюрбан сбился набок и закрыл один глаз. Приведя себя в порядок, он сказал:
— Если вы разоружились, я был бы счастлив объяснить вам, почему это, — он дотронулся до бакенбард и тюрбана, — не просто полезная маскировка, но и необходимая.
— Не позволю! — Она подняла руку с вазой. — Если вы немедленно не покинете мой номер, я выпровожу вас силой с помощью детектива из отеля.
Эдуардо улыбнулся, глядя на ее пылающее лицо.
Он почти готов был быть изгнанным ради удовольствия видеть реакцию портье и детектива, когда она их вызовет. В светло-сиреневом платье, которое оттеняло ее черные локоны и золотистые глаза, полные яростного гнева, Филадельфия являла собой картину, которую они запомнили бы надолго. Такое происшествие могло даже попасть в колонку сплетен какой-нибудь газеты. Однако он не был готов к тому, чтобы ее имя стали обсуждать таким манером, во всяком случае, не сейчас. Она должна занять определенное положение. Эти три дня, которые он провел в Нью-Йорке до ее приезда, он был слишком занят, и, если его труды не окажутся бесполезными, она вскоре предстанет перед обществом.
— Вы великолепны в своем гневе, мемсаиб, но я умоляю вас выслушать меня, прежде чем вы разобьете довольно дорогую вещь китайского фарфора.
Филадельфия взглянула на вазу в своей руке и, определив ее как произведение эпохи Мин, поставила на место.
— Вы правы.
Она дотянулась до ленты звонка.
Эдуардо встал.
— Зачем вы это делаете? Я готов сделать для вас все, что вы пожелаете.
— Тогда уходите!
Он скрестил руки на груди.
— Вы становитесь очень неуживчивой. Я готов потворствовать вам, насколько это возможно, сеньорита, но я не позволю, чтобы меня выгоняли из номера, который я оплачиваю.
Он отбросил подобострастный тон, каким разговаривал с ней последние двадцать четыре часа, и его обычный волевой голос напомнил ей, что она в действительности его должница. Следуя его примеру, она скрестила руки на груди.
— Хорошо, объяснитесь.
Он улыбнулся, во всяком случае, она подумала, что он улыбается, ибо его фальшивые бакенбарды затопорщились.
— Вы выступаете в определенной ипостаси, и я тоже, чтобы оставаться рядом с вами, должен играть какую-то роль. Я избрал для себя роль слуги, выходца из Восточной Индии, потому что я знаком с этим типом людей. Можно сказать, что мой образ взят из жизни. Несколько лет назад у меня был слуга по имени Акбар. Он сейчас находится в… впрочем, это не имеет значения. Несколько советов умной и проворной портнихи, визит к театральному гримеру и… — он игривым жестом показал на себя, — пожалуйста, живой Акбар. А теперь, — продолжал он шутливым тоном, — не хотите ли вы чашку горячего шоколада, которую я принес вместе с вашим завтраком?
— Нет, — с пафосом объявила она, хотя аромат какао был очень соблазнителен.
— Тогда вы не будете возражать, если я выпью чашечку? — спросил он, шагнув к столику. — Я обнаружил, что роль слуги накладывает довольно много обязанностей, и не мог позавтракать, пока вы меня не вызвали. Быть может, этим объясняется моя ошибка.
Лицо Филадельфии неожиданно осветилось, но она отвела глаза раньше, чем он поднял глаза от чашки, которую наливал.
— Значит, в нашей маленькой драме вы будете играть эту роль и будете моим слугой?
— К вашим услугам, мемсаиб. — Он сделал жест рукой, который она уже много раз видела с того момента, как он встретил ее на вокзале в Нью-Джерси.
— А откуда вы такой слуга?
— Можно сказать, что это подарок вашей дорогой тети Агнес, живущей в городе Дели, в Индии.
Филадельфия подозрительно взглянула на него.
— Людей не дарят в качестве подарка.
Он предложил ей чашку шоколада, которую она взяла молча.
— Ваша страна, — сказал он, — воевала в связи с этой проблемой, не так ли? Боюсь, что моя страна в скором времени будет обречена на такую же участь.
— В вашей стране есть рабы? — спросила она.
Он налил себе вторую чашку и сел на диванчике напротив нее.
— В моей стране множество рабов — индейцы-рабы, рабы из Африки, мулаты и множество других смешанных кровей, чье происхождение вообще забыто.
Чашка Филадельфии застыла на полпути от подноса до ее рта. Она припомнила, как он хвастался своим огромным богатством и различными предприятиями.
— Вы рабовладелец?
Он заметил выражение ее лица и решил немножко посмеяться над ней.
— Почему? Ах, вы янки в синем мундире?
— А вы Саймон Легри!
— Саймон? — Он произнес это имя с тягучим акцентом. — Это плохой рабовладелец в романе сеньоры Стоу «Дядя Тим»?
— «Дядя Том», — поправила она его. — Вы ушли от ответа на мой вопрос.
— Вы ужасно хорошеете, когда краснеете. Вы должны чаще краснеть на людях, и тогда даже эти деревянные североамериканцы будут падать к вашим ногам, как осенние листья.
Он кокетничал с ней, и, поскольку она понимала, что он ожидает ее возмущенной реакции, это привело ее в ярость. Она резко встала.
— Не надейтесь, что я буду поощрять вашу причастность к этому одиозному установлению.
Он вздохнул.
— Почему вы не скажете прямо, что вы имеете в виду? Эти формальности, эта сдержанность не обязательны между нами. Если вы хотите, скажите: «Я ненавижу рабство и рабовладельцев и отказываюсь иметь дело с вами, если вы такой!»
Филадельфия произнесла:
— Я против рабства и рабовладельцев и не желаю иметь ничего общего с человеком, который считает, что держит в рабстве своих соотечественников.
— Хорошо сказано. — Он похлопал в ладоши и потом грустно посмотрел на нее. — К сожалению, я не рабовладелец, так что ваши слова теряют всякий смысл. Но я запомню, что вы женщина, имеющая собственное мнение, и вам нельзя противоречить.