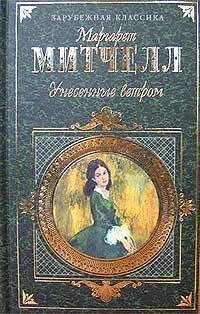Ознакомительная версия.
И люди тоже радовались, тоже волновались, но иначе, чем тогда, когда удрал Баллок. Радость была менее буйная, более прочувствованная, люди от всей души благодарили бога, и все церкви были полны, и священники возносили хвалу господу за избавление штата. К восторгу и радости примешивалась гордость — гордость за то, что в Джорджии удалось восстановить прежнее правление, несмотря на все усилия Вашингтона, несмотря на присутствие армии, несмотря на наличие «саквояжников», подлипал и местных республиканцев. Семь раз конгресс принимал акты, направленные на то, чтобы раздавить штат, оставить его на положении завоеванной провинции, трижды армия отменяла гражданские законы. В законодательное собрание проникли негры, алчные чужеземцы правили штатом, частные лица обогащались за счет общественных фондов. Джорджия лежала раздавленная, беспомощная, измученная, оплеванная. А теперь, невзирая ни на что, она снова стала сама собой, и все это — благодаря усилиям своих граждан.
Столь неожиданный поворот в судьбе республиканцев не всеми был воспринят как великое счастье. Уныние воцарилось в рядах подлипал, «саквояжников» и самих республиканцев. Гелерты и Хандоны, явно узнав об отставке Баллока еще до того, как это стало широко известно, неожиданно покинули город и растворились в небытии, откуда они и появились. Оставшиеся в Атланте «саквояжники» и подлипалы чувствовали себя неуверенно — напуганные случившимся, они жались друг к другу в поисках взаимной поддержки, гадая, какие из их темных делишек выплывут на свет в связи с начавшимся расследованием. Они уже не держались с высоким пренебрежением. Они были потрясены, растеряны, испуганы. И дамы, посещавшие Скарлетт, повторяли снова и снова:
«Ну, кто бы мог подумать, что так все повернется? Мы все считали губернатора всемогущим. Мы считали, что он здесь — навеки. Мы считали…» Скарлетт была не меньше их потрясена поворотом событий, хотя Ретт и предупреждал ее о том, в каком направлении они будут развиваться. И она вовсе не жалела, что Баллока не стало, а демократы вернулись к власти. Хотя никто бы этому не поверил, но и она восприняла с мрачной радостью известие о том, что господству янки наступил конец. Слишком живо она помнила, как ей пришлось изворачиваться в первые дни Реконструкции, как она страшилась, что солдаты и «саквояжники» отберут у нее деньги и собственность. Она помнила, как была беспомощна, какой панический страх обуревал ее оттого, что она не в силах была ничего предпринять, какую питала ненависть к янки, навязавшим Югу свое жестокое правление. И эта ненависть к янки никогда у нее не иссякала. Но пытаясь наиболее достойно выйти из положения, пытаясь добиться полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, она шагала в ногу с победителями. При всей своей нелюбви к ним, она окружила себя ими, порвала узы, связывавшие ее со старыми друзьями и прежним образом жизни. А теперь власть победителей испарилась. Скарлетт поставила на то, что правлению Баллока не будет конца, — и проиграла.
Озираясь вокруг в то рождество 1871 года, самое счастливое рождество для штата за последние десять лет, Скарлетт испытывала чувство глубокого беспокойства. Она не могла не видеть, что Ретт, которого раньше все ненавидели в Атланте, стал теперь одним из самых популярных жителей города, ибо он смиренно отрекся от республиканской ереси и отдавал все свое время, деньги, труд и разум Джорджии, помогая ей вернуться к былому благополучию. Когда он ехал по улицам, улыбаясь, приподнимая шляпу в знак приветствия, с маленьким голубым комочком — Бонни, торчавшим впереди него в седле, все тоже улыбались ему, охотно с ним заговаривали и дружелюбно поглядывали на девочку. А она, Скарлетт…
Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чем не знает удержу и что ей нужна твердая рука, но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с Реттом в Новом Орлеане и Чарльстоне, ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми и она часто засыпала у отца на руках в театре, ресторанах и за карточным столом. С тех пор только силой можно было заставить ее лечь в постель одновременно с послушной Эллой. Пока Бонни была с Реттом, он позволял ей носить любые платья, и с той поры она поднимала скандал всякий раз, как Мамушка пыталась надеть на нее бумажное платье и передничек вместо голубого тафтового платья с кружевным воротничком.
Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома, и позже, когда Скарлетт заболела и находилась в Таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнивать ее, пыталась смягчить ее нрав и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Ретт всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни и как бы возмутительно она себя ни вела. Он поощрял ее, когда она говорила, подражая взрослым, и относился к ней, как к взрослой, выслушивая с Серьезным видом ее суждения и прикидываясь, будто следует им. В результате Бонни могла оборвать кого угодно из старших, перечила отцу и осаживала его. Он же только смеялся и не разрешал Скарлетт даже хлопнуть девочку по руке в наказание.
«Если бы она не была такой милой, ласковой девчушкой, она была бы просто невыносима, — мрачно размышляла Скарлетт, неожиданно осознав, что дочка может помериться с ней силой воли. — Она обожает Ретта, и он мог бы заставить ее лучше себя вести, если бы хотел».
Однако Ретт не выказывал ни малейшего желания заставлять Бонни вести себя как следует. Что бы она ни делала, все признавалось правильным, и попроси она луну, она бы получила ее, сумей отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Ретту нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хотя избалованная и капризная, Бонни вызывала такую всеобщую любовь, что у Ретта не хватало духу даже пытаться ее обуздать. Он был для нее богом, средоточием ее маленького мирка и слишком ценил это, боясь наставлениями все разрушить.
Она льнула к нему как тень. Она будила его, не дав ему выспаться, сидела рядом с ним за столом и ела то с его тарелки, то со своей, ездила с ним в одном седле на лошади и никому, кроме Ретта, не позволяла себя раздевать и укладывать в кроватку, стоявшую рядом с его большой кроватью.
Скарлетт забавляло и трогало то, как ее маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Ретт так серьезно воспримет отцовство? Но порою жало ревности пронзало Скарлетт, так как Бонни в четыре года лучше понимала Ретта, чем когда-либо понимала его сама Скарлетт, и лучше, чем Скарлетт, справлялась с ним.
Ознакомительная версия.