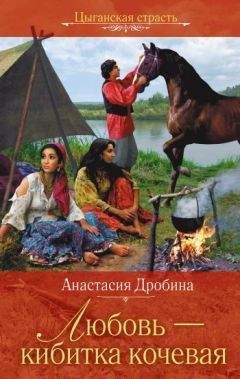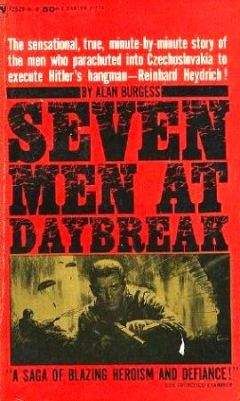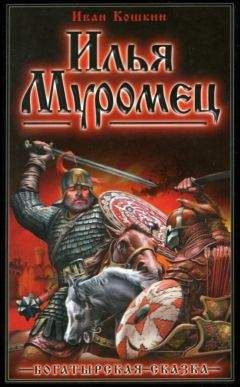Всего однажды над Настей попытались посмеяться в открытую. Это было во время стоянки возле станицы Бессергеневской. В тот день не повезло всем: то ли казаки здесь были слишком жадными, то ли сердитыми из-за предстоящих военных сборов, но даже Стеха вернулась вечером в табор без куска сала. Настя расстроенно вытряхивала из фартука перед костром какую-то прошлогоднюю редиску, когда кузнец Мишка по прозвищу Хохадо, не отрываясь от растянутых мехов, насмешливо крикнул Илье:
– Эй, Смоляко! С голоду еще не дохнешь со своей канарейкой городской?
Настя так и залилась краской, но Илья и бровью не повел. Не спеша выдернул иглу из лошадиной сбруи, которую чинил, отложил работу в сторону, поднял с земли кнут и пошел к Мишке.
Хохадо владел кнутом не хуже Смоляко, это знали все. Беда была в том, что он и вытащить кнут не успел. Удар – и из рук Мишки вылетела ложка. Удар – и рваная шапка с его головы взвилась над шатром и плавно опустилась в лошадиную кучу. Еще удар – и Мишка с воплем отпрыгнул назад, рубаха на его плече лопнула. Кнут Ильи порвал лишь ткань, не оставив на коже даже полоски. Снова взмах – и разъехался по всей длине второй рукав.
Это был высший шик, и весь табор, побросав дела, застыл с восхищенно открытыми ртами. На лице Ильи застыла недобрая усмешка, он словно играючи взмахивал кнутом, делая шаг за шагом к Мишке, и одежда того расползалась на глазах. Мишка, хватаясь то за рубаху, то за штаны, отчаянно ругался, но вынужден был отступать к реке. В конце концов Илья загнал его по пояс в воду, бережно положил кнут на камень, зашел в реку сам и сбил Мишку с ног ударом в челюсть, в который вложил всю злость. Хохадо с головой ушел под воду, забулькал, вскочил, отплевываясь и призывая на голову Ильи всех чертей, но дать сдачи не решился. Цыгане на берегу осторожно помалкивали, дед Корча притворно хмурился, катал сапогом камешек. Илья вышел на берег, поднял кнут, не торопясь двинулся к своему шатру. Проходя мимо цыган, вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказал:
– Кто про мою бабу слово тявкнет – совсем утоплю.
– Э, ромалэ, вы взгляните только, какой бурмистр нашелся, а?! – заголосила было жена Мишки, но кто-то из стариков цыкнул на нее, и она умолкла.
Злой, как черт, Хохадо выбрался из реки и быстро полез в свой шатер. Перепуганная Настя, сжав руки на груди, с ужасом смотрела на мужа. А тот, как ни в чем не бывало усевшись у костра и взяв в руки упряжь, вдруг поднял голову и улыбнулся ей. Такую улыбку, широкую и плутоватую, Настя видела у Ильи нечасто и сразу догадалась, что все произошедшее его изрядно позабавило. А подбежавшая от соседнего шатра Варька шутливо ткнула ее кулаком в бок и вывалила из своего фартука целую гору картошки и пять луковиц.
– Чего ты пугаешься, Настька, золотенькая моя? Пока я жива – никто с голоду не умрет!
Вечером того же дня, когда так и не разразившаяся гроза унеслась за Дон, а красное солнце висело в облаке пыли над выгоревшей степью, Илья купал в реке гнедых. Как всегда, возясь со своими «невестушками», он не видел и не слышал ничего вокруг и выскочил из-под лошадиного брюха лишь тогда, когда совсем рядом послышался громкий всплеск: в реку въезжал дед Корча верхом на незаседланном чубаром. Позади шел десятилетний правнук, ведя в поводу двух серых.
– Теплая вода, чаво?
– Молоко парное…
– Эй, давай в воду! – крикнул Корча мальчишке, и тот обрадованно направил лошадей прямо в реку. Дед легко спрыгнул с чубарого, умудрившись не замочить сапог, вышел на пологий берег, жестом поманил за собой Илью. Тот пошел, с тревогой думая про себя: что стряслось?
Корча основательно уселся на песке, достал из-за пояса трубку, жестом позволил садиться и Илье, и тот неуверенно присел на корточки. Раскурив свою длинную «мадьярку», дед выпустил сизый клуб дыма. Не глядя на Илью, спросил:
– И долго ты еще так собираешься?
– О чем ты?
– Да о вот этом кочевании вашем… На землю садиться не думаешь?
– С какой радости? – потрясенно спросил Илья. Он не удивился бы, услышав подобное от жены или сестры, но – Корча, который сам все свои годы провел в кочевье, который не мыслил другой жизни, понимая, что для цыган это – хлеб?! За весну и лето табор проезжал через десятки деревень и сел, цыгане всюду, где было можно, по бросовой цене скупали крестьянских худоконок, которые бежали за кибитками без груза, незапряженные, за лето отъедались на вольном выпасе, и осенью их продавали, беря двойной, а то и тройной барыш. Чем другим еще можно было жить?
– Но, дед… Что я на земле делать буду?
– Что ты в Москве полгода делал?
– Ничего хорошего, – проворчал Илья. – Больше не хочу.
– Ну, так готовься без своей красавицы остаться.
Его словно кнутом вытянули. Илья вздрогнул всем телом, рука сама собой дернулась к ножу, но он вовремя вспомнил, кто перед ним находится, и остановился, уставившись в землю. На скулах его ходуном ходили комки. Корча наблюдал за ним с усмешкой.
– Эк тебя подбросило…
– А тебе что – рассказывали что-то? – сквозь зубы, не подняв глаз, спросил Илья. – Про Настьку? С кем она?!.
– Тьфу, у вас, жеребцов, одно на уме… – сплюнул дед. – Да я и знал бы – не сказал! В молодые-то годы языком попусту не молол, а теперь и вовсе не след. Уймись, о другом я. Вот где она сейчас, ты знаешь?
– Как где? В шатре сидит… – растерялся Илья.
– В степи она сидит. Вон там. – Корча показал кнутовищем в сторону садящегося солнца. Илья, повернувшись, долго всматривался, но красный свет бил в глаза, и он, как ни старался, не разглядел ничего.
– Сразу туда ушла, как только вы с Хохадо искупались. Третий час сидит, не шевелится. Старуха моя ходила, говорит – плачет девочка. Не мучил бы ты ее, худо ей здесь. Хорошая девочка, старается, терпит – но, видать, скоро невмочь станет. В городе бы ты с нее больше навара имел. Запустишь ее в трактир петь – и можешь до смерти на печи лежать пузом вверх. А окажешься поумней – вместе с ней пойдешь.
– А кони мои? – угрюмо спросил Илья. – Тоже в трактир пойдут?
– Слушай, ты один, что ли, на свете кофарь? В городах полно цыган живет, и лошадничают, свои конюшни держат. Ума у тебя хватит, ухватки тоже. Ежели денег нет – я дам на первое время. Подумай. Настю твою жалко. Пошла за тобой, дурнем, как на каторгу.
– Пусть уходит, если не по нраву! – огрызнулся Илья. – Держать не стану.
– Дурень и есть, – подытожил дед Корча. Поднялся и, не дожидаясь самозабвенно плещущегося в воде среди фыркающих коней правнука, пошел вверх по берегу. Илья остался сидеть, обхватив руками колени, смотрел на красную от закатного света воду, мрачно думал: опять все сызнова… И трех месяцев по-людски не прожили.
Когда в сумерках он вернулся к своему шатру, Настя была уже там, копошилась у котла с едой. Услышав шаги мужа, подняла голову.