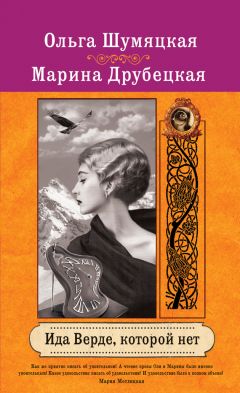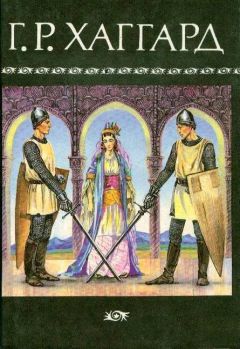На кинофабрику бежала бегом, поскальзываясь на неверном ноябрьском льду.
Толкнув дверь, на которой было написано «Студия пластических этюдов», она тут же обо что-то споткнулась, чуть не упала и, посмотрев вниз, увидела, как полтора десятка людей извиваясь ползают по полу. Все были одеты в синие бумажные брюки на помочах и белые фуфайки. Не успела она разобрать, есть ли среди них девушки, как одно существо подползло к ней вплотную и попыталось обвиться вокруг ног, сладострастно высовывая красный язык.
Она вскрикнула и инстинктивно отступила на шаг.
Раздался смех.
Подняв глаза, Зиночка увидела Лозинского.
Он сидел в кресле посреди огромной пустой залы, заложив длинные ноги в высоких сапогах одна на другую и постукивая по подлокотнику жокейским хлыстиком.
– Живей! Живей! – крикнул он.
Люди на полу стали извиваться еще больше.
Лозинский глядел на них с прищуром, и Зиночке показалось, что в его глазах прыгает издевка. Непонятно только, почему они его слушают.
– А вы, мадемуазель Ведерникова, пока присаживайтесь, – обратился Лозинский к Зиночке.
Она присела на краешек стула, расширившимися от ужаса глазами наблюдая за копошением на полу.
– Ну, довольно, – наконец проговорил Лозинский. – Этюд окончен. Начинаем обсуждение.
Люди в синих штанах начали подниматься, отряхиваться, потирать бока.
Зиночка увидела, что юношей и девушек среди них примерно поровну.
Лозинский между тем все нетерпеливей бил хлыстиком по голенищу сапога.
Все поспешно расселись по лавкам, стоявшим вдоль стен.
– Вот вы, – Лозинский ткнул хлыстиком в румяного юношу. Тот поспешно вскочил и вытянулся по стойке «смирно». – Вы извивались совершенно неубедительно. Амплитуда и динамика ваших движений…
«Я сошла с ума!» – думала Зиночка, слушая речь Лозинского о том, что «дождевой червь – суть воплощение низменных инстинктов, изобразить которые на экране…». Дальше она отключилась и с силой ущипнула себя за руку, чтобы убедиться в реальности происходящего.
Студийцы вставали один за другим, и каждому Лозинский находил что сказать про дождевых червей и их психофизические особенности.
– Вот если бы вам поручили роль Урии Хипа, – обращался он к одному студиозусу. – Покажите, как бы вы сыграли, имея в виду наше сегодняшнее упражнение.
И студиозус, угодливо изворачиваясь всем телом, показывал.
– А вам, голубчик, поручили Молчалина, – поднимал Лозинский следующего.
«Не так уж глупо!» – подумала Зиночка, но тут занятие закончилось.
Лозинский встал и обратился, насмешливо глядя с высоты своего здоровенного роста, к ней.
– А вас, мадемуазель Ведерникова, я прошу завтра прибыть в униформе и не опаздывать. Всего хорошего.
И вышел.
Как только за ним закрылась дверь, студийцы сгрудились вокруг Зиночки.
Она улыбнулась холодной отстраненной улыбкой, чтобы отгородиться от любопытных глаз, но поняла, что номер не пройдет.
Народ тут грубый, невоспитанный, не то чтобы совсем из низов, однако интеллигентностью не пахнет. У девиц размалеванные лица, обесцвеченные дешевой пергидролью волосы. У парней заскорузлые руки с дурно подстриженными ногтями. Одна из девиц наклонилась к Зиночке и принялась щупать ткань платья. Запах сладких духов ударил Зиночке в нос. А девица уже вела ладонью по чулкам.
– Шелковые! – произнесла с завистью.
Зиночка отбросила ее руку, резко поднялась и направилась к двери. Чувство физической брезгливости охватило ее.
– Подумаешь, цаца-ляля! – хмыкнул кто-то ей в спину.
С того дня Зиночка так и осталась для студийцев цацей-лялей. Они ее как бы не замечали, а если обращались изредка, то глядели с усмешкой и со стороны. К своим делам не привлекали. В перерыве все дружно доставали из сумок огромные ломти хлеба, намазанные толстым слоем масла, с кусками колбасы и, скаля зубы, перебрасываясь шуточками, принимались завтракать.
Она же, испытывая отвращение и к толстым ломтям, и к жирной колбасе, и к пошлым шуткам, шла в ближайшую кондитерскую пить кофе.
В ватерклозете девицы демонстрировали друг другу новые чулки, дешевое белье, менялись помадой, обрызгивались духами, обсуждали во всех отвратительных физиологических подробностях свои отношения с парнями. Когда входила Зиночка, тут же замолкали.
Чутье ее не подвело: народ в студии по большей мере был из мещанства да околотеатральных кругов. Дети мелких чиновников, торговцев, бывшие студенты, несколько девиц из театральных гримерок – костюмерши, мечтающие пробиться в актриски, а две – цирковые. Эти последние, как казалось Зиночке, имели особенно сильный налет вульгарности. Одна из них говорила «ихние» и «ложить» вместо класть.
Униформу свою Зиночка ненавидела. «Кирза и дерюга» – так она называла хлопчатые штаны и спортивные ботинки, которые заставлял носить Лозинский и в которых она чувствовала себя бесполой.
Сам Лозинский вводил Зиночку в недоумение. Он был холоден, насмешлив, равнодушен и, кажется, ставил ее вровень с остальными студиозусами, чего Зиночка никак не могла от него ожидать.
Но главное – главное! – ее не покидало ощущение полнейшей бессмысленности происходящего. Они ползали, бегали, прыгали, таращили глаза, изображая страннейшие вещи. Печеную картошку, к примеру. Или чашку с отбитой ручкой. Или летящую по ветру газету.
«Эмоция – мимика! Чувство – жест! Характер – движение! Забудьте о словах! Тело – ваш инструмент! Научитесь владеть им в совершенстве!» – кричал Лозинский.
Зиночка не хотела владеть телом в совершенстве. Актерская игра, по ее мнению, ничего общего не имела с прыжками, ужимками и кувырками.
Иногда Лозинский давал этюды на парную игру. Макака-самец гонится за макакой-самкой. Изображать макаку Зиночка отказалась. Лозинский хмыкнул, но оставил ее в покое. В следующий раз, когда разыгрывали сценку, показавшуюся Зиночке вполне приемлемой – слепая девушка ждет возлюбленного, но, бросившись на шею вошедшему человеку, обнаруживает, что ошиблась, – Лозинский даже ее не вызвал. А ведь это единственное, что имело отношение к синема.
Кухарка внесла чай.
– Поставь сюда, – Зиночка указала на низкий столик возле кресла. – Иди ложись. Я сама потом уберу.
Она потянулась к чашке. Халатик распахнулся, обнажив колено, на котором красовался большой позеленевший синяк. Зиночка поморщилась и поспешно запахнула полы.
Три недели нечеловеческой усталости, синяков, ушибов, ссадин, ломоты в суставах. И все – для чего? Почему она не уходит? Почему каждое утро тащится в ателье?
Иногда студийцы обсуждали, какими ролями можно будет разжиться в детективной серии. Так и говорили – «разжиться», как будто роли – это пирожки с требухой. Прислушиваясь к разговорам, Зиночка понимала, что ничем стоящим «разжиться» будет нельзя. В лучшем случае – эпизодом. А скорей всего – топтанием в массовке, как после «Защиты Зимнего», где снимались десятки тысяч статистов, стали называть большие массовые сцены.