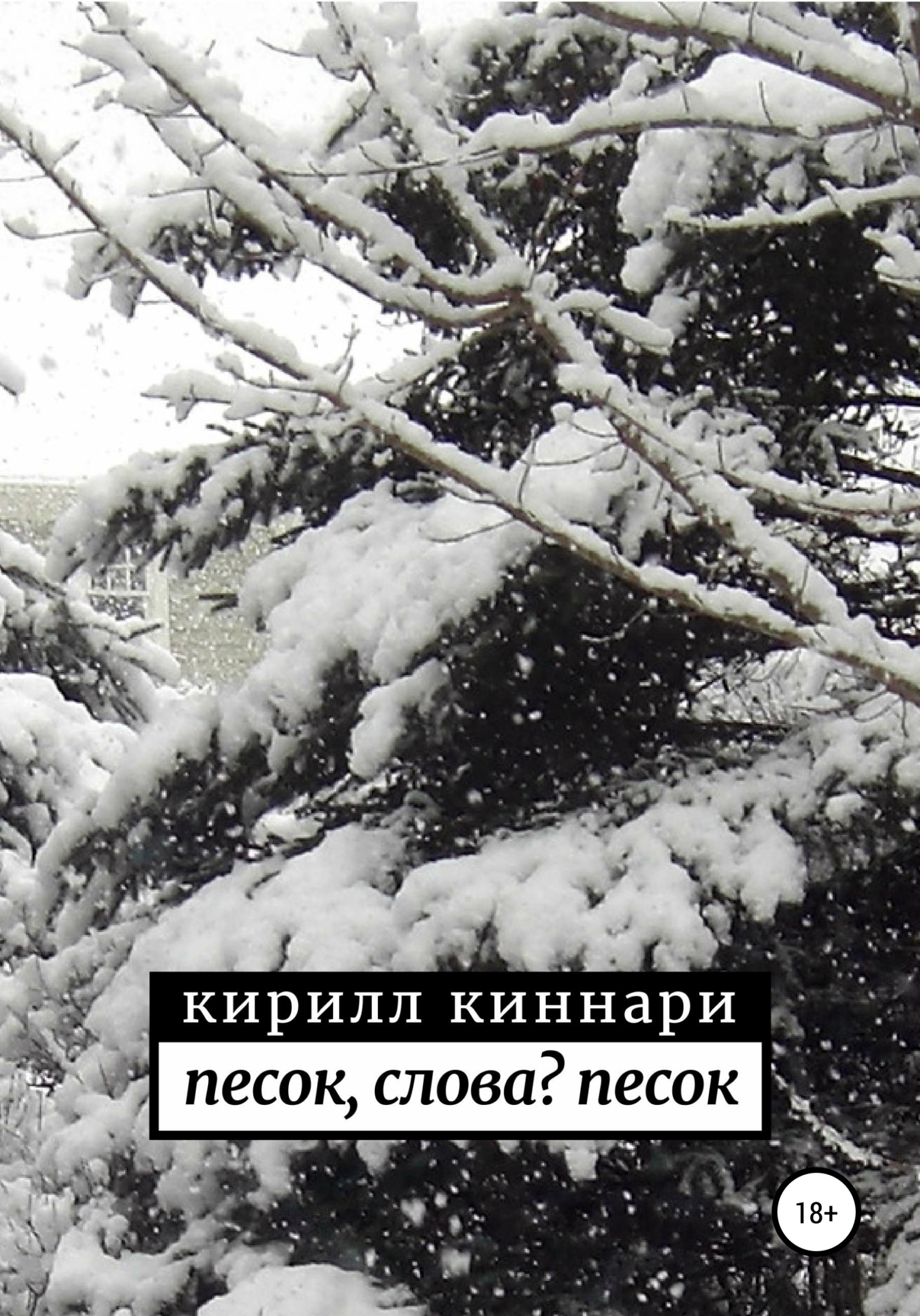— Почему?!
— Потому что невозможно быть матерью, не будучи ею.
Когда, швырнув тарелки на пол и произнеся несколько грязных ругательств, Франсуаза убежала с террасы, майор смотрел на осколки посуды, как на осколки своей жизни. Это возмездие, ибо Бог не прощает ни обмана, ни фальши, говорил он себе.
Женщина сидела возле постели девочки, как вдруг Жаклин открыла глаза и тихо спросила:
— А дождя больше нет?
Франсуаза встрепенулась.
— Он закончился.
— И никогда не начнется? — в голосе девочки звучало беспокойство.
— Он пойдет тогда, когда это будет нужно. Чтобы все вокруг ожило и рассвело.
Жаклин обвела глазами комнату.
— А где моя мама?
— Я здесь, — робко и нерешительно промолвила Франсуаза, а затем продолжила с неожиданным жаром: — Это я, я твоя мама! Я всегда буду с тобой, и ты тоже меня не покинешь! Я люблю тебя, моя дорогая девочка, и никому тебя не отдам!
Только Богу ведомо, откуда налетают внезапные душевные бури, почему даже наглухо закрытые человеческие сердце вдруг отворяется настежь.
Подняв девочку на руки, хотя она была достаточно тяжелой, Франсуаза прижала ее к своей груди, словно та была младенцем. Потом опустила Жаклин на постель, легла рядом и принялась гладить ее волосы и шептать такие слова, каких, казалось, никогда не знала.
Засыпая спокойным сном, девочка прошептала:
— Мама!
Наступило утро. После обильного дождя газон пестрел цветами, словно живой ковер; по фасаду дома вились желтые, голубые и красные гирлянды, а в зарослях кустарника оглушительно пели птицы.
Фернан Рандель сидел на террасе за чашкой кофе, который сам же сварил, и ему чудилось, будто его жизнь прошла бесцельно, что он не приобрел никаких настоящих привязанностей, не пустил никаких корней. Едва что-то начало зарождаться, как наступила полная катастрофа.
Послышались легкие, мягко шлепающие по дереву шаги, и на террасе появилась Франсуаза, босая, в одном пеньюаре.
— У Жаклин больше нет жара. Кашель тоже прошел. Она спит.
Фернан прошел в комнату девочки. Жена оказалась права. В кровати лежал хотя и измученный болезнью, но вполне здоровый ребенок.
— Она назвала меня мамой, — с несвойственной ей нежностью промолвила женщина.
— Вот как?
— Да! Это правда. А тех арабских женщин, что работали на нас, я уволила, — сообщила Франсуаза изумленному Фернану. — Я заплатила им деньги, много денег и дала понять, что они должны забыть дорогу в этот дом.
— Но почему?
— Так было нужно. И еще: с этого дня с Жаклин — ни слова по-арабски. Она должна забыть язык, забыть все, что еще помнит.
— Не думаю, что это возможно, — усомнился Фернан, и Франсуаза отрезала:
— Вполне!
Приподняв полы пеньюара, женщина закружилась по комнате. На ее губах порхала легкая улыбка, а глаза сияли. От выражения безысходности на лице, мрака во взоре, многодневной усталости не осталось и следа.
Франсуаза протянула мужу руки, и он сжал ее в пальцы в своих. Так они молчали, глядя друг на друга, пока женщина не промолвила:
— С этого дня мы наконец станем настоящей семьей.
Шейх Сулейман ибн Хусейн аль Салих приехал в масхаб так быстро, как только смог. Увидев отца, Идрис испытал радость, какой не испытывал еще никогда. От шейха Сулеймана пахло пустыней, верблюдами, дымом родного очага. В своих широких штанах, опоясанной потертым ремнем рубахе, несколько раз обернутом вокруг головы запыленном платке он выглядел не как оседлый городской житель, а как вечный странник.
В начала разговора шейх дал понять сыну, что недоволен им, и Идрис прямо спросил:
— В чем я провинился, отец?
— Муаллим говорит, что ты ведешь себя дерзко.
— Я просто говорю то, что думаю. Вы учили меня поступать именно так, если только дело не идет о хитрости, направленной против врагов.
Шейх Сулейман помолчал, обдумывая ответ.
— Да, но здесь ты должен подчиняться правилам школы.
— Разве справедливость не превыше всего, разве вы не призывали меня всегда следовать ей? — спросил Идрис отца, и, чуть помедлив, тот подтвердил:
— Конечно.
— А если то, что я считаю справедливым, идет против установленных кем-то правил, что тогда?
— Тогда не бойся что-то нарушить. Зачастую ветры дуют не так, как хотят корабли, и кто их остановит?
— Я защищал друга, — признался Идрис, а потом у него вырвалось: — Я не понимаю, почему все считают, будто воруют только бедные!
— Бедные воруют, оттого что голодны, а богатые… те считают, будто все принадлежит им, и потому просто берут. Все решится в Судный день, и, возможно, Всевышний оправдает тех, кто украл для своих детей кусок хлеба и накажет тех, кто приобрел богатство и титулы за счет того, что мало заботился о народе.
Мальчик посмотрел на отца с восхищением, а тот принялся рассказывать, как обстоят дела в оазисе: кто женился, вышел замуж, родился, умер, про скот, про отношения с соседями. Идрис слушал с такой жадностью, с какой пересохшая земля впитывает влагу.
— Как там моя Айна? — с волнением поинтересовался он.
Отец улыбнулся.
— С ней все в порядке.
— А Анджум?
Шейх Сулейман свел вместе густые брови.
— Кто это?
— Дочь тех людей, что прибились к нам из другого племени.
Отец пожал плечами.
— Откуда я знаю? Мой народ — слишком большая семья, я не могу и не должен думать и знать о каждом. Надо полагать, она пристроена, и о ней есть кому позаботиться. В определенных случаях ты обязан держать сердце в кулаке и не распылять свою душу подобно тому, как ветер разносит песок, ибо главное качество вождя — это цельность.
Услышав такой ответ, Идрис серьезно кивнул.
В тот же день они с отцом посетили базар, где шейх Сулейман приобрел для сына новую одежду и все то, что велел купить муаллим Ризван. По тому, как тщательно и бережно он отсчитывал деньги, доставая их из потертого кошелька, Идрис мог представить, что с наличными в оазисе не густо. Вместе с тем он хорошо понимал, что для него отец не пожалеет ничего.
Мальчику во что бы то ни стало хотелось оправдать его бесценное доверие и трогательную заботу.
На прощание отец сказал:
— Я не знаю, чем тебе помочь. Возьми деньги взамен украденных. А еще я привез тебе вот это.
Идрис заглянул в мешок. Там был песок, песок пустыни, которому мальчик обрадовался больше, чем деньгам. То была частичка дома, частичка его самого, часть его оставленной в оазисе души. Идрис сразу понял, что песок способен ему помочь.
Наступила ночь. Во внутреннем дворе висел фонарь, на свет которого, сверкая слюдяными крылышками, беспрерывно летели мотыльки. Комнаты воспитанников располагались по периметру двора, а та, в которой жили Идрис и Наби, — еще и под самым фонарем, так что мальчики даже могли читать по ночам. Впрочем, это больше касалось Наби.
Подойдя к свету, юный бедуин сказал другу, что желает кое-что ему показать.
— Вот, — сказал мальчик, доставая небольшой мешочек, — отец снова дал мне денег.
Наби покраснел, и Идрис тотчас добавил:
— Ты будешь свидетелем того, что половину денег я заменю… песком.
— Что ты задумал? — прошептал Наби.
— Ничего. Просто посмотрим, что будет. Отец не случайно передал мне подарок пустыни. Он поможет.
— Но ведь это обычный песок!
Идрис зачерпнул из мешка горсть песка и просеял сквозь пальцы обратно.
— Для тебя чудо — это книги, а для меня — вот это, — задумчиво произнес он. — Я видел, как земля смыкается с небом, а на бесплодной земле зарождается жизнь. Я знаю, что такое неподвластная времени пустота и сколько важного можно услышать в безмолвии.
— Я тоже буду гордиться тем, что узнал тебя! — прошептал Наби.
На следующий день все шло как обычно. Воспитанники масхаба повторяли суры Корана, писали диктанты, зубрили таблицу умножения, решали задачи. А после, вернувшись в свою комнату, Идрис обнаружил, что спрятанный под циновку мешочек пропал.