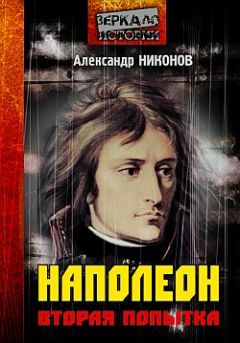Рядом с полковником медленно умирал молодой лейтенант гренадеров. Он попал под копыта русской кавалерии, и в его раздавленном теле не было ничего, что можно было бы вырезать без опасности для жизни. Он почти не мог шевелиться, не мог есть; ему давали только бульон, и, конечно, никто не убирал за ним. Полковник считал, что лучше бы оставили этого юношу на поле боя, где бы он умер, не приходя в сознание.
Ранним утром хирурги начали осмотр больных и необходимые перевязки. Лежа на своем матраце, де Шавель старался не дергаться от боли, которую причиняли ему отрываемые с треском присохшие бинты. Он старался думать о чем-то далеком, неземном, пока санитары под наблюдением врача совершали свою мучительную работу. Это усилие полностью истощило его. Вокруг раздавались вопли и стоны других раненых, и когда он, наконец, открыл глаза, то увидел, как из палаты выносят три тела… Юноша рядом с ним вдруг стал кашлять кровью и страшно стонать. Де Шавель попробовал приподняться на локтях и позвал на помощь: «Санитар! Санитар! Подойдите сюда!» Но голос был так слаб, что никто не расслышал его за стонами и криками, наполнявшими комнату. Де Шавель бессильно упал на матрац и впервые его небритое лицо пробороздили жгучие слезы жалости к двадцатилетнему мальчику, умирающему от кровотечения посреди госпиталя… И он, полковник, был не в силах помочь… Он крикнул со всей мочи еще раз, и наконец появился спешащий санитар, но де Шавель уже потерял сознание от усилия и от боли. Когда он очнулся, в комнате уже стоял вечерний сумрак и дремали на своих стульях дежурные врачи. Полковник уже не помнил, что было до того. У него ныло в груди и жгуче болел обрубок руки. По привычке он повернулся влево, ожидая увидеть там юношу-гренадера, который был его соседом с самого Бородина. Но место на полу было пусто, и санитар вытирал с пола следы недавней смерти…
Полковник закрыл глаза и погрузился в сон. Во сне он кричал, но никто не подошел к нему, и когда он проснулся, комната уже была вся залита красноватым светом, словно день клонился к вечеру. За окнами был слышен какой-то грохот, и все больные, кто хоть с грехом пополам мог ходить, сгрудились у окон вместе с врачами.
— Что случилось?.. Что случилось?.. — повторял де Шавель шепотом, пока кто-то не обратил на него внимание и не ответил ему:
— Город горит! Это зарево — не закат и не восход, это пожар, сударь!
По приказу московского градоначальника графа Растопчина в городе оставались агенты, которые по сигналу подожгли город в разных местах. За считанные минуты огонь охватил целые кварталы деревянных зданий, раздуваемый сильным ветром. Снопы искр носились в воздухе и, попадая на все новые крыши, разносили пожар по всему городу.
Не хватало колодцев, их не хватало и раньше для обеспечения питьевой водой, а уж для борьбы с пожаром ее просто не было. Французские патрули пытались задерживать поджигателей, но дело было сделано, и адский огонь быстро пожирал все новые улицы города. Тот шум, который слышал де Шавель, был вызван взрывами: французы разрушали взрывчаткой дома вокруг очагов пожара, чтобы не дать пламени захватить весь город. Однако ветер упорно сносил с горящих крыш целые языки пламени, и пожар не утихал.
Через двадцать четыре часа от императора поступил приказ эвакуировать госпиталь.
Император и сам покинул Кремль. Армия, которая надеялась немного отдохнуть и прийти в себя после ужасной битвы, спешно выводилась из Москвы. Надежды на теплую зимовку сгорели вместе с подожженной Москвой. В Санкт-Петербург был выслан в качестве эмиссара императора генерал Лористон, имея цель склонить императора Александра к переговорам о мире. Бывший посол в Москве Коленкур отказался ехать с таким поручением, и это о многом говорило. Коленкур, достаточно хорошо зная обстоятельства русского государя, не питал надежд на его уступчивость. Даже при всем своем желании Александр не пошел бы на мировую, находясь под сильным давлением семьи и двора. Последние надежды Бонапарта на мир развеялись после того, как Кутузов неожиданно атаковал отряды Мюрата у деревеньки Виньково и обратил их в бегство. Наполеон приказал отходить от дымящихся руин Москвы на Смоленск, где он рассчитывал обрести зимние квартиры для своей армии. Никто в окружении императора не посмел назвать этот «маневр» отступлением, но все понимали, что называется это именно так. В порыве злости Наполеон приказал Мортье взорвать старинные кремлевские здания после выхода оттуда французских войск.
Этот медленный исход начался девятнадцатого октября с санитарных обозов, в которых вывозили сотни еще не поправившихся раненных при Бородине. Путь этим обозам прокладывала кавалерия. Де Шавель настоял на том, чтобы ему позволили ехать сидя. Его первые самостоятельные шаги завершились унизительным для него падением. При падении в его раненой груди что-то треснуло, и рана снова закровоточила. Он ехал в фургоне, привалясь спиной к стенке и держась рукой за лавку, на которой сидел. В фургоне ехало еще с дюжину раненых офицеров, большинство из них не могли сидеть и валялись на полу вплотную друг к другу.
Бравый майор Бофуа, который дрался при Бородине в дивизионе Нея и потерял глаз от сабельного удара по голове, заметил, повернувшись к сидящему рядом полковнику:
— Кажется, мы возвращаемся, а? Это впервые мне приходится драпать за все двадцать лет, что я дрался за императора! Куда же мы все-таки едем, полковник?
— Все одни слухи, ничего больше, — отвечал полковник. — Я думаю, что план императора в том, чтобы зазимовать где-нибудь на теплых квартирах, а к весне начать новое наступление.
— С кем это? — саркастически спросил майор. — С мертвецами? Я вам вот что скажу, полковник, никто из нас этой зимы не переживет. Вчера я говорил с одним лейтенантом-пруссаком, еще до начала эвакуации, так он говорит, зима здесь такая, что хуже не бывает во всей Европе. Вот почему они подожгли Москву, они нас выкурили на мороз, и мы теперь отступаем. У меня жена и дети в Нанте. Я сомневаюсь, что я их еще увижу. Может, оно и к лучшему, моя жена будет не в восторге от моего теперешнего лица! А вы женаты, полковник?
— Нет, — сказал де Шавель. — Моя жена умерла, а детей у меня нет.
— Это самое лучшее для солдата, — усмехнулся майор. — Можно драться со спокойной душой.
В течение того времени, как де Шавель находился в полубессознательном состоянии или мучился от боли, ему не приходила в голову и мысль о женщине. Он не думал ни о ком. Но сейчас перед ним вдруг всплыло лицо Валентины в тот последний вечер в Чартаце и как она сказала, что любит его. У него не было никого, ни жены, ни дочери или сына, только боевые товарищи, и эти друзья все, наверное, рассуждали так же, как майор. Он не вспоминал о той девочке вплоть до этой минуты, и ему было странно, что мысль о ней взволновала его. Ему вдруг показались странно пророческими слова ее сестры: «Для некоторых женщин есть только один мужчина. Если Валентина такова, то она уже ни с кем никогда не будет счастлива». Но, конечно, это не могло быть правдой. Эта мысль сразу показалась ему вздорной, а сейчас он вернулся к ней только под влиянием своей слабости. Она, безусловно, давно уже забыла о нем. Трех с половиной месяцев более чем достаточно для женщины, чтобы разлюбить человека, которого она не видит рядом с собой. Лилиана изменила ему уже на следующую ночь после его отъезда в Египет. Странно, что воспоминание о Лилиане теперь не ранило его, как прежде. Она забылась, черты ее лица почти стерлись из памяти. На этом месте вдруг оказалось другое лицо, прекрасное, с внимательными фиалковыми глазами, наполненными сдерживаемой страстью и любовью… Любовью? Он вдруг обозлился на майора, который решил, что он один на всем свете и у него нет никого, кто поплакал бы о нем.