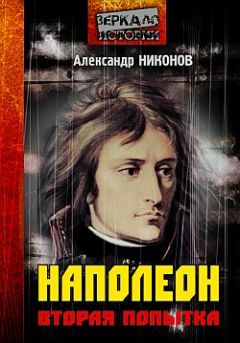Восемнадцатого сентября стоял отличный солнечный денек. Вот уже пять дней армия Наполеона квартировала в древней столице России. Но радость была несколько омрачена тем открытием, что русские просто оставили город без боя. Ни выстрела не было сделано в сторону французов после Бородина. Русский верховный военачальник Кутузов отвел свои поредевшие войска от Бородина, оставив открытой дорогу на Москву. Наполеоновские войска вошли в столицу в мертвенной тишине, так резко контрастировавшей с грохотом бородинского боя. Раненых везли следом за основными силами в повозках и санитарных каретах. В одной из таких карет для раненых высших офицерских чинов находился и де Шавель. Он пришел в сознание именно тогда, когда их карета медленно проезжала мимо Кремля, направляясь в наскоро развернутый госпиталь на окраине Москвы. Под госпиталь был выбран большой каменный дом, который, в отличие от деревянных, имел необходимые удобства. Пока полковника несли на носилках вверх по лестнице и перегружали на кровать, он старался как можно меньше шевелиться и затаиться от пронзительной боли в груди и в правой ампутированной руке. В первое время боль в обрубленных нервах руки была просто невыносима. Хорошо еще, что первые три дня после битвы он был без сознания. Когда же сознание вернулось к нему, то вместе с физической болью его стало терзать отчаяние от потери руки… Он, кавалерист и фехтовальщик, не имеет правой руки для шпаги…
Майор Макдональд, проследовавший с ним до Москвы, рассказал полковнику, при каких обстоятельствах ему отняли руку. Других возможностей спасти ему жизнь не было, сказал майор. Но де Шавель почти не разговаривал с ним. Он еще не вполне осознал происшедшее. Он так ослаб от потери крови, что терял чувства при малейшем усилии. В груди его отдавалась страшная боль при каждом вздохе, хотя рана была зашита правильно и оставалась чистой, без гноя. Но он не мог поверить, что у него больше нет руки. Той руки, на которой он был хозяином каждому пальцу, которая с такой ловкостью выполняла любой выпад шпагой… Он осознал потерю, только когда сам сумел разглядеть окровавленные бинты и пустой, неловко подогнутый рукав своей рубахи… Когда он увидел это, то отвернулся и грубо сказал:
— Черт бы вас подрал, майор, почему же вы не дали мне умереть достойно!
Но постепенно он привыкал к этой мысли. Он думал, что теперь, когда он инвалид, его офицерская карьера закончена, и если он вообще выживет, то придется переходить к штатской жизни. И в своем отчаянии он все же находил волю к жизни; в глубине души у него теплилась ребяческая надежда на то, что ему удастся побороть свою боль и свое увечье, быстро встать на ноги и тогда, быть может, он еще успеет повоевать. Но эта надежда давала ему силы жить, хлебать жидкий вегетарианский суп, который только и принимал его желудок после ранения, мириться с серой больничной рубахой и несвежей постелью. Он старался побороть соблазн уснуть и спать, спать до тех пор, пока сон не перейдет незаметно в смерть. Он отверг мысль о смерти, и в то время как те, чьи тела покрывали его на поле боя, были давно похоронены, он жил, жил, несмотря ни на что. Из тридцати раненых офицеров, вывезенных из Бородина, до Москвы дожило только восемь, и он в их числе.
По-прежнему во французской армии не хватало провианта, фуражные склады были пусты, а вода часто оказывалась отравленной. Потери людей и лошадей от отравления и заражения кишечными болезнями были катастрофическими, По русской столице гуляли компании оголодавших солдат, грабящих бакалейные лавки, булочные, тут же, на мостовой, распивающие найденное вино, хватающие с немногих оставшихся витрин что попадется — меха, сукно и посуду. Русские, словно нарочно, оставили нетронутыми винные склады, чтобы позволить французским солдатам «поднять» уровень своей дисциплины… Действие русских вин на французских бойцов оказалось столь глубоким, что император издал специальные указы, запрещающие грабеж лавок и пьянство, а ослушников расстреливали на месте. Но все было тщетно. Трудно отнять у человека то, что он уже взял. У многих походные ранцы уже лопались от утвари, прихваченной для обустройства своих домов или подарков женам…
В госпитале, где лежал де Шавель, постоянно менялся состав раненых: привозили новых офицеров на место тех, кто умирал от ран. Хирурги делали все возможное в невероятно напряженных условиях. Врач, который делал операцию полковнику, сам свалился от дизентерии и был положен в соседнюю палату.
От армии Наполеона осталось всего сто тысяч человек, или пятая часть того полумиллионного войска, перешедшего три месяца назад русскую границу. При этом, вопреки всем ожиданиям, русские отнюдь не подавали признаков готовности идти на переговоры. Но де Шавель не думал об этом и почти ничего не знал о ситуации, в которой оказалась французская армия. Он был слишком слаб и все, что его интересовало, ограничивалось теперь стенами госпиталя и границами его боли. Ней навестил его в госпитале, что было, конечно, знаком почести, но в этот момент де Шавель лежал без сознания и не узнал маршала. Макдональд проводил с ним очень много времени и постоянно следил за санитарами, ухаживающими за полковником, по мере надобности давая им выволочки с истинно шотландским темпераментом. Так, бутылку бургундского, присланную де Шавелю маршалом Мюратом, украл один из санитаров, впрочем, де Шавель теперь не смог бы осилить эту бутылку сам. Мюрат не стал посещать госпиталь лично, не любил он больниц; император спрашивал его как-то раз о де Шавеле, но потом позабыл, что же ему на это ответили. При Бородине Наполеон потерял сорок генералов, и среди такого числа потерь немудрено было забыть обо всем.
Для раненых больше не оставалось коек. Де Шавеля переместили на матрац, положенный прямо на пол, и он еще оказался в гораздо лучшем положении, чем те, кому пришлось довольствоваться одним тонким одеялом под собою. Незамысловатая пища готовилась тут же на кухне, расположенной прямо в гостиной дома. Работали походные печи, они топились порубленной бесценной мебелью, найденной в особняке, и копоть от этих печей черными языками покрывала отделанные золотом стены. Система канализации даже в самых роскошных московских домах была далека от совершенства; и в особняке, взятом под госпиталь, она и подавно не могла отвечать потребностям двухсот — трехсот человек, многие из которых не могли вставать. Начальник госпиталя, опасаясь тифа и повальной дизентерии, велел своим людям наладить минимальные санитарные условия, на что получил ответ, что есть дела поважней, чем копать выгребные ямы только потому, что ему не нравится вонь.