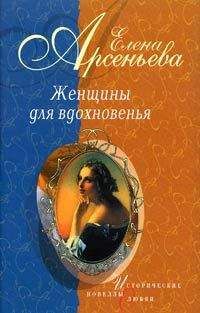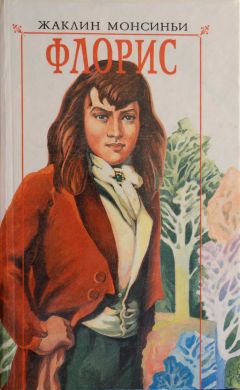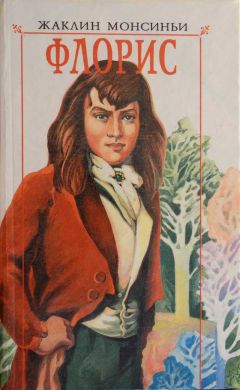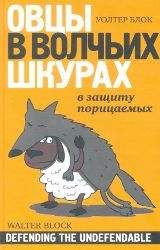Во втором часу ночи мертвый телефон ожил.
— Это… я, — раздался голос, сопровождаемый не то смущенным, не то распутным смешком. — Завтра, ах нет, уже сегодня вечером я буду в Тенишевском училище на диспуте о комедии масок. Веригина тоже там будет… как и нынче. Приходите и вы.
И повесила трубку.
«Будет Веригина… как и нынче». Это намек на несостоявшееся знакомство, к которому ее подготовила Веригина? Она жалеет, что встреча не состоялась? Наверное, да; наверное, жалеет, иначе не позвонила бы, не сказала о завтрашнем, ах нет, уже сегодняшнем вечере!
Диспут в училище народного творчества (это училище патронировала княгиня Мария Тенишева, оттого оно и называлось Тенишевским) шел своим чередом. Веригина вышла на сцену — и сразу увидела в первом ряду своего друга Блока, сидевшего рядом с Любовью Дельмас.
Итак, знакомство все же свершилось, пусть и без ее участия. Она вспомнила, как несколько дней назад приглашала Александра Александровича на этот диспут, и тот шутливо пригрозил: сядет, мол, в первом ряду и будет ее пугать. А потом равнодушно сказал, что вовсе не пойдет на вечер. Ну надо же, пришел-таки! Но похоже, судьба комедии масок его вовсе не интересует — он совершенно поглощен своей соседкой! А что это они делают? Записочками обмениваются, что ли? Скажите пожалуйста! Ну совершенно Китти и Левин, роман графа Толстого «Анна Каренина»! Тут Веригина спохватилась, что стоит молча уж слишком долго, и поспешно заговорила о пресловутых итальянских масках.
А те двое продолжали стремительную переписку:
«Не могу слушать. Вас слышу. Почему вы каждый день в новом платье?» — «Пришла Тэффи». — «Надо пересесть?» — «Теперь уже неловко». — «Все это я вижу во сне, что вы со мной рядом…» — «Вы даже не вспомните об этом…» — «А если это будет часто?..» После диспута он Проводил ее домой. Пешком, не пожелав брать извозчика — чтобы продлить встречу. Она не настаивала: покорно шла рядом.
Постояли на углу Офицерской. В окне ее квартиры горел свет — значит, кто-то был дома.
— Мне пора.
— Да.
— Прощайте.
— Да.
Он молчал, глядел под ноги. Вдруг она схватила его руку, сжала пальцы… ну а он в ответ сжал ее в объятиях.
Целовались, словно студент с гимназисткой, словно сумасшедшие. Уж и раздевать друг друга начали! Но ветер, зимний сырой ветер… Кое-как нашли в себе силы расстаться. Было уже четыре утра.
Он шел домой, чувствуя себя брошенным, забытым, потерянным. Чудилось — она уехала куда-то далеко, а он остался на пустом берегу. Ждать неизвестно чего. Или известно? Сдержит ли она слово, которое дала на прощанье: «Нынче вечером…»?
Вернувшись, он посмотрел в зеркало. Губы, шея были испятнаны ее помадой; его руки, которые она стискивала, пахли ее духами…
Он записал в дневнике: «Дождь, ванна, жду вечера…»
Они договорились вечером встретиться. И никогда, чудилось, ни один день в жизни не тянулся для него так долго. Иногда он вдруг пугался: нет, не может быть, не может! Только аромат ее духов вселял надежду на то, что все сбудется.
Да, все равно — я твой!
Да, все равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!
Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!
Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как иерей, свершу я требу
За твой огонь — звездам!
Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов…
И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснет мне белыми зубами
Твой неотступный лик.
Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой,
Помыслишь обо мне…
За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, —
Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!
Следующий вечер он провел у нее, и ночь тоже. И еще одну ночь, и еще одну, и еще… И всякий раз, уходя на восходе, смотрел на это окно, теперь уже, по его мнению, «горящее не от одной зари», и думал, что за стеклом все еще виднеется тот пламень, который сжигал их обоих. От этого огня и пылало окно!
Любовь Дельмас, страстная по сути своей, по всем повадкам, по ролям, даже по огню своих волос, не могла поверить, что этот холодноватый Гамлет с отстраненным взором и надменным ртом способен так любить, как любил он, так желать — и так воплощать свое желание в любовное действо. Ну а уж так облекать это самое желание в слова вообще не мог никто в мире, в том Любовь Александровна была совершенно убеждена, снова и снова перечитывая его записки: «…Я не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого выхода… Я не мальчик, я много любил и много влюблялся. Не знаю, какой заколдованный цветок Вы бросили мне, но Вы бросили, а я поймал…»
В ответ она посылала ему ячменные колосья, потому что как-то раз он сказал, будто волосы ее жестки, словно колосья, посылала вербу, потому что уже была весна, их первая весна, посылала розы — они непрестанно обменивались розами того особенного, жаркого цвета, который он грубо называл рыжим, чтобы снова и снова вспомнить о ее волосах, о ее теле, покрытом вуалью веснушек и родинок, которые он обожал целовать.
И она пела для него обнаженной — без всяких там полупрозрачных материй, без стыдливых покровов: пела — тело к телу, пела — губы к губам.
Вообще это была какая-то иная жизнь, иная реальность, иная судьба.
И чего-то нам светлого жаль.
Значит — теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.
Этот колос ячменный — поля,
И заливистый крик журавля,
Это значит — мне ждать у плетня
До заката горячего дня.
Значит — ты вспоминаешь меня.
Розы — страшен мне цвет этих роз,
Это — рыжая ночь твоих кос?
Это — музыка тайных измен?
Это — сердце в плену у Кармен?
Роман поэта и актрисы сделался общеизвестен. Дошли вести и до Любови Дмитриевны Менделеевой, жены Блока. Она отнеслась к новости довольно спокойно: еще одна связь, их уже было-перебыло. Она завидовала сопернице и тем образам, которые та навевала влюбленному поэту. Когда-то она одна была его музой… Но про себя пожимала плечами: ну, родится еще один цикл стихов… может быть, даже не один. Однако конец-то все равно ясен.