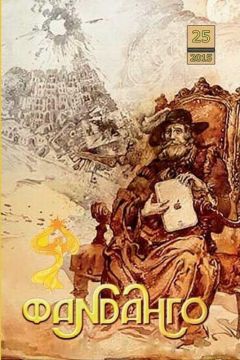Услышав про свет Христов, Тороп вздрогнул. Эти слова он уже слышал прежде, в другой, еще свободной жизни…
Как-то раз в ворота их селища незадолго до набега постучался седобородый старец в поношенной серой хламиде, назвавшийся слугой Христовым. Про сторонников этой веры, пришедшей на Руссь из ромейской земли, дома у Торопа слышали разное и не только хорошее. Больше всего недобрых речей произносили обитавшие близ Велесова святилища премудрые волхвы. Оно и понятно: христиане, как известно, чтят Бога единого, поклонение другим кумирам считается у них грехом тяжким, а волхвам то, разумеется, обидно.
Хотя в Тороповом роду Велеса всегда чтили и волхвов привыкли уважать, прогонять старика не стали. Он был жестоко простужен и измотан долгой дорогой. К тому же отец сказал, что не стоит бранить чужую веру, как следует в ней не разобравшись. Вот тогда Тороп впервые услышал слово о Боге, который так любил род людской, что ради его спасения пошел на муки и смерть, завещав свою любовь всем, уверовавшим в него. Отец Лука, так звали странника, говорил, что следует возлюбить ближнего своего, потому что все люди братья. Из всех народов, живущих в населенном мире, он питал устойчивую неприязнь только к хазарам, называя их христопродавцами. Верно, поэтому Булан бей убил его одним из первых…
***
Игра меж тем шла дальше. У одного края поля смерды спешили на выручку своему князю, у другого бродили в недоумении не ведающие, как своему князю помочь, бояре и нарочитые мужи. Не зря дядька Нежиловец предупреждал, не зря Талец прятал улыбку в усы. Выпросталась наружу вся эта улыбка, когда он уверенным движением утвердил на доске с виду невзрачный чурбачок. Вид у новгородца был такой, словно пригвоздил он к корабельной мачте злого находничка, печенега.
Кровь бросилась в лицо Белена. Так поспевает малина: в начале она чуть розовеет, а когда солнце переполняет ее через край, она становится багровой, почти до черноты. Малина зреет все лето, Белен поспел вмиг: метнулся к доске, да видно поздно было.
– Талец нечестно играл! – завопил Белен что было мочи. – Не мог он выиграть, верно, плутовал!
В избе поднялся гомон.
– Не городи пустого, Белен! – насупил брови дядька Нежиловец. – Раньше думать было надо. Когда я говорил тебе: гляди в оба, ты все нюхал, как пахнет у нас в избе. Вот и нанюхался!
Многие засмеялись, но Белену было явно не до смеха. Серебряной змеей скользнула гривна прочь с его шеи.
Дядька Нежиловец крякнул от досады.
– Коли у князя голова на плечах, то и смерды битву выиграют, – сказал он.
Потом немного помолчал и добавил:
– А коли репа пареная, то и дружина не поможет!
Добавил тихо, чтобы услышали только его усы, но Тороп разобрал.
Тоскливо шарил Белен глазами по избе, пытаясь отыскать, с кем бы досадой поделиться. Случись под ногами собака, пнул бы, глядишь, полегчало. Но собака меховой коврижкой свернулась в дальнем углу, а вставать Белену было лень.
Талец, меж тем, едва не мурлыкал, примеряя добытое сокровище. Глядя на него, даже Тороп повеселел, углы рта сами собой поползли в стороны, как сытые ужи от миски с молоком.
И на эту самую улыбку Белен наткнулся, точно на кочевряжистый сучок, торчащий из ствола
– А ты почто лыбишься, падаль!? – взревел Белен.
– А ни почто! – разлепив спекшиеся, потрескавшиеся губы, отозвался мерянин. – На тебя любуюсь, как ты свою потерю по стенам ищешь!
Хвален-охотник учил сына отвечать, когда спрашивают. Хотел Тороп крикнуть на всю хоромину, да получилось лишь кукареканье полузадушенного петуха. Впрочем, и того хватило.
Громовой хохот дружины, отраженный дубовыми перекрытьями, едва не раскатал избу по бревнам.
– Ну, Лягушонок, ну, Драный! Сказал, так сказал! – весело басил дядька Нежиловец, смахивая слезы с кончика носа. – А я мыслил, он и разговаривать не умеет!
Тальца беззвучный смех перегнул пополам. Ну, точно выходило так, будто Белен искал на стенах проигранную гривну.
Белена подбросило вверх, он позабыл про лень, подлетел к Торопу злым соколом. Ох, здоров, ох, силен. Схватит за шиворот да о бревна шарахнет – одним рабом меньше станет у боярина Вышаты Сытенича.
– Тебе что, ребра давно не считали? – выцедил Белен сквозь зубы, сгребая мерянина за вихры, как делали это прежде молодцы Булан бея.
– Ребра мои давно считаны, – прохрипел Тороп в ответ. – Да не тебе их считать! Не ты за меня серебро платил!
Тороп не ведал, разобрал ли Белен его последние слова. Мерянин выдавил их из себя, чувствуя, что губы уже не повинуются. Острая боль, саданувшая по спине, оглушила его, и вновь помнилось мерянину, что конец его не далек.
Но новгородец вдруг разжал пальцы, и Тороп упал носом в овчину, не имея сил дышать, чувствуя, как лавка от ударов его сердца ходит под ним ходуном. Даже сквозь тяжкую истому мерянин разобрал, что в избе стихли разговоры, приметил, как высунувшийся было из-под печи домовой в страхе нырнул обратно.
Возле печного столба стоял боярин!
Вся Торопова удаль куда-то подевалась. Он не испугался Белена: еще чего не хватало, но от Вышаты Сытенича исходила сила и уверенность человека, привыкшего, чтобы ему повиновались. И в этом доме он был хозяин. Как прикажет выкинуть строптивого раба прочь из избы, точно паршивого котенка! «Ну и пусть, – со злостью подумал Тороп, – я и не просил никого меня сюда притаскивать!»
Но боярин даже и не обратил внимания на мерянина. Он смотрел на Белена. У синих звезд, что глядят холодной зимней ночью на заплутавшего путника, взгляд бывает теплее. Придавленный этим взором Белен сник, поскучнел, даже ростом меньше, кажись, сделался.
– Уже с умирающими воюешь? – негромко спросил боярин.
Белен покраснел еще пуще, хотя, казалось, дальше некуда, пнул ногой доску, фигурки рассыпались по полу, и выбежал прочь из избы.
Талец подобрал фигурки, сложил их вместе с доской в ларь. Туда же сунул гривну – подальше от боярских глаз. Но Вышата Сытенич уже прохаживался между лавками, придирчиво оглядывая, кто из его людей чем занимается, давая советы, делая замечания. Ни о Белене, ни о строптивом холопе больше никто не говорил ни единого слова.
Под боярским весом тяжко стонали половицы. И что у новгородцев за полы такие: не полы, а гусли яровчатые, хочешь ходи, хочешь – тонцы выводи! Подойдя к белоголовому Путше, который нынче ладил к мечу новые ножны, Вышата Сытенич одобрительно похлопал его по плечу:
– Пусть в этих ножнах поселится добрый меч, и пусть он знает час, когда показывать свой взгляд.
Парень немного смутился, явно польщенный вниманием Вышаты Сытенича.
– Да когда же мечу свой взгляд-то показывать? – спросил он простодушно. – Мы ведь в это лето собирались по мирным делам идти, по торговым!
Боярин переглянулся с дядькой Нежиловцем, и оба рассмеялись.
– По мирным-то оно, конечно, по мирным! – отозвался дядька Нежиловец. – Да только помоги нам Бог пройти с миром земли буртасов и печенегов. Да и с хазарами лучше ухо держать востро. Кто им слишком доверял да посулы их лживые слушал – дорогой ценой за это заплатил!
Тороп, внимательно смотревший на боярина, заметил, как вдруг напряглось его лицо, словно дядька Нежиловец задел невзначай плохо зарубцевавшуюся старую рану.
«Неужто и хозяину этого богатого дома есть что припоминать хазарам», – с удивлением подумал Тороп.
Вышата Сытенич какое-то время стоял, погруженный в свои, видимо, не очень веселые думы, потом, словно о чем-то вспомнив, повернулся к Тальцу.
– Пойди, позови сюда Мураву, – велел он парню. – Скажи, что Драный ее, наконец-то, ожил.
Как показалось Торопу, Талец с видимым удовольствием поспешил выполнять боярское поручение. «Еще бы!» – подумал Тороп. Как он сам ни был слаб и удручен своими немочами, а все же не мог дождаться, когда хозяйская дочь явится на зов отца. Уж очень хотелось убедиться, так ли боярышня хороша, как это показалось ему на торжище.