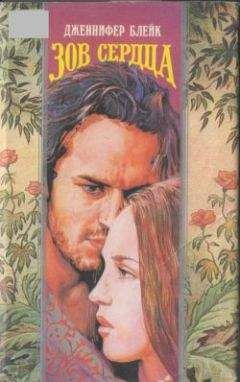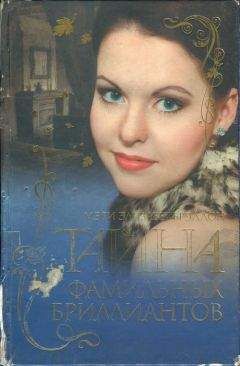– Меня не интересует его дедушка!
– А должен бы интересовать. Яблоко от яблони недалеко падает. Человек – это история его семьи, это все его предки. И внук лорда Киркмайкла тоже способен на любую низость.
– Ну, это уж слишком опрометчивое суждение, и ты все воспринимаешь в чересчур мрачном свете!
Однако, вспомнив почти пустой поднос с тремя конвертами вместо горы писем и карточек, Грейс – весьма непоследовательно – воскликнула:
– Но как же им не стыдно, и как это жестоко – поверить в такое про меня! Можно возненавидеть все человечество, раз люди так глупы! И я никогда не прощу этих скверных его представителей, которых называла своими друзьями, как бы они потом ни старались загладить свою невежливость!
Теперь уж и речи быть не могло о том, чтобы не придавать событиям чрезмерного значения, и Грейс Перивейл разрыдалась. Теперь ей тоже все представлялось в очень мрачном свете.
– Грейс, дорогая, ну, пожалуйста, умоляю тебя, успокойся! И не оставайся ты в этом ужасном Лондоне, среди бессердечных сплетников. Почему бы тебе не уехать на некоторое время в замок и не пожить там, пока тайна не прояснится, а так оно несомненно и будет?
– Уехать? – вскричала леди Перивейл, немедленно воспрянув духом и оставив позу сломленной несчастьем женщины. – Отступить и признать поражение? Даже если бы этот дом стал раскаленной жаровней, я бы все равно осталась, чтобы посмотреть прямо в глаза своим лжедрузьям, чтобы они узнали, какова я на самом деле!
– Что ж, дорогая, наверное, это наилучшее решение, если ты только сможешь все вытерпеть, – довольно грустно ответила Сью.
– Но почему молчит полковник Рэннок? Он же не потерял дар речи! И это его долг – вывести сплетников на чистую воду!
– Вот то же самое я ответила герцогине. Но полковника не видели в Лондоне с самой осени, говорят, он охотится в Скалистых горах. А теперь я должна бежать на уроки. Еще раз до свидания, дорогая. Не забудь, что в пятницу я у тебя обедаю.
– Не пригласить ли человек двадцать в твою честь, известив гостей по телеграфу, как я сделала в прошлом году, чтобы отметить свое возвращение в Лондон? – с горечью спросила Грейс. – Ладно, дорогая, не беспокойся обо мне чересчур. Я выдержу эту бурю. И вообще эта чепуха должна меня скорее забавлять, чем расстраивать.
Мисс Родни вытерла заплаканные глаза и, спускаясь по лестнице, постаралась сделать спокойное лицо. Лакей, подавив зевок, подошел к двери. Мисс Родни быстро оглядела холл, вобрав в один взгляд всю его протяженность. И великолепие, с мраморной скульптурой у подножья лестницы, бронзой канделябров, пурпуром мягких, как мох, ковров.
«Богата так, что никакому скупцу и во сне не приснится, – и так несчастна!» – подумала Сью и быстро вышла, чтобы успеть на омнибус, идущий в Челси.
Нечасто приходилось леди Перивейл в разгар лондонского сезона вкушать прелести одиночества, сидя у собственного камина, не получая писем, визиток, телеграмм; одиночества, не нарушаемого внезапными набегами друзей в одиннадцать вечера, после обеда и до начала танцев, когда от нее настоятельно требовали ответа, почему она отсутствовала на обеде и поедет ли она танцевать, и что за случайность или каприз помешали их обожаемой звезде явиться на светском небосклоне. В этот первый вечер по возвращении в Лондон, после ухода Сьюзен Родни не прозвенел ни один звонок. Тишина в доме была такой непривычной, что она ощущала ее почти болезненно.
«Я начинаю понимать, что должен чувствовать прокаженный в своей норе, затерянной в пустыне, – говорила она себе. – То, что произошло – почти трагично, и, в то же время это какой-то совершеннейший абсурд. Трагично узнать, что светские дружбы зиждятся на песке, который при первом порыве неблагоприятного ветра рассеивается и уносится с ним прочь».
Она сделала вид, что обедает, потому что слуги могли слышать о происшедшем, и она не хотела выглядеть в их глазах подавленной несчастьем, пусть и незаслуженным. Они, конечно, знают правду, ведь у нее два свидетеля, которые могут опровергнуть все домыслы на ее счет: дворецкий Джонсон и преданная горничная, Эмили Скотт. Но она не знала, что главный лакей и кухарка подняли на смех негодующего Джонсона, когда он заявил, что хозяйка ни разу не выезжала из Порто-Маурицио:
. – Не такой вы человек, чтобы выдать ее, если даже она и позволила себе немного развлечься. Вы и мисс Скотт глядели в другую сторону, когда она паковала чемоданы, – сказал лакей.
– И она могла нанять другую горничную, вместо Эмили, – заметила кухарка. – Что поделаешь, время такое, недаром называется «финн дер секл».[2]
Дворецкий и Эмили приходили в ярость от таких разговоров, и только дух сотрудничества и тот факт, что лакей Джеймс был ростом более шести футов с лишним, а также великолепно чистил бронзу, мешали Джонсону рассчитать его немедленно.
– Разве я когда-нибудь врал? – возмущенно спросил Джонсон.
– А я? – прорыдала Эмили.
– Что касается ваших собственных дел, то нет, – ответила кухарка, – но вы можете с три короба наврать, чтобы выгородить хозяйку.
– Да, я могла бы, – ответила горничная, – если бы ей нужно было что-нибудь скрывать, но ей этого не надо и никогда не потребуется.
– Ладно, я могу только сказать, что весь Лондон болтает об этом, – ответил Джеймс, – и мне пришлось туговато в таверне Физерса, когда я стал защищать миледи и поклялся, что все это вранье, но меня приперли к стенке доказательствами, да и сам я думаю, что дыма без огня не бывает.
Так они спорили, пока не легли спать.
Грейс, пытаясь читать, сидела в маленькой гостиной, а в складках ее кружевного вечернего платья уютно устроился коричневый пудель. Она брала книгу за книгой – Мередит, Харди, Браунинг, Анатоль Франс, – надеясь найти что-нибудь, что успокоило бы ее и направило мысли в другое русло. Но сегодня литература была не в помощь.
«Да, только счастливые могут читать», – подумала она. Оставив книги в покое, Грейс предалась размышлениям. Ей уже приходилось испытывать чувство печали, длительной и глубокой, из-за смерти мужа, к которому она была нежно привязана, а до этого она потеряла горячо любимого отца, но, несмотря на эти утраты, она не чувствовала себя несчастной. У нее был счастливый склад характера, она любила удовольствия жизни, любила все, что есть в мире интересного и прекрасного: искусство, музыку, цветы, природу, лошадей, собак – и даже людей. Она любила путешествия, веселую суету светских лондонских сезонов и тишину одиночества на итальянской вилле. Детство она провела в сельском уединении, и все ее девичьи радости были просты и незамысловаты. Она была единственным ребенком в семье. Отец, с того дня как совершил погребальную службу над гробом молодой жены, порвал почти все связи с внешним миром и не покидал пределов прихода. Он был ученым человеком и взял помощника, которому передоверил бремя церковных треб, а сам, держа хороших лошадей, то в двуколке, то верхом объезжал свою паству, которая его любила, даже самые грубые и черствые ее представители. Из близких родных у него была только дочь, и вся его любовь досталась ей. Он сам ее учил, воспитывая ее вкус на лучшем, что есть в литературе, однако держал ее за ребенка, даже когда ей исполнилось восемнадцать, и был чрезвычайно удивлен тем, что в конце одного охотничьего сезона к нему явился сэр Гектор Перивейл и попросил руку дочери – он неоднократно встречал Грейс в дружеском кругу соседей.