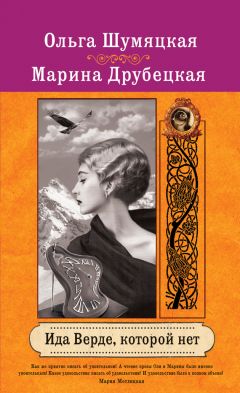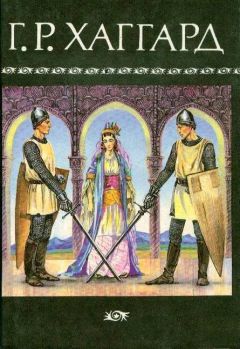Иногда ей казалось, что в груди ходят огромные ржавые поршни, со свистом, скрипом и скрежетом перекачивая воздух. Иногда начинал бить неудержимый кашель.
Под вечер лица и предметы расплывались, их очертания тонули в жарком душном мареве. Ида начинала метаться в постели.
По ночам ей снилось, что она рыба, запутавшаяся в водорослях на морском дне. А вокруг плавают другие рыбы – страшные, морд не разглядеть, слишком мутна вода от взбитого гигантскими хвостами песка. Сейчас подплывут и заглотнут ее скользкими губами в скользкое брюхо. И из больного горла Иды вырывался короткий дикий крик.
Ассистентка вскакивала, будила ее, подносила освежающее питье, и Ида вновь засыпала, чтобы погрузиться на морское дно.
Приходил старик Феодориди. Приносил настойки из разных трав.
Приходила зеленоглазая старуха-целительница. Пела заклинания, делала вокруг Идиной головы странные пассы. Не помогало.
В группе царили мрачные настроения. Начались разговоры о том, что фильма никогда не будет закончена – Ожогин не станет ждать, когда госпожа Верде соизволит выздороветь.
Время будто застыло. Ничего не происходило.
Оставалось доснять несколько крупных планов Иды на фоне скал.
Нахимзон злился.
Деньги на содержание группы утекали сквозь пальцы. В Ялту летели телеграммы с просьбами выделить средства на продление экспедиции. Деньги приходили, однако никаких сопроводительных телеграмм и записок от Ожогина не поступало. В этом молчании чувствовалось глухое раздражение.
Лозинский психовал. Всего-то несколько часов работы – и экспедицию можно сворачивать. Как он посмотрит Ожогину в глаза, когда они вернутся в Ялту? Да ладно! При чем тут – посмотрит в глаза! С контрактом можно распрощаться – вот в чем беда. Но как?! Как Ида сможет отработать последние кадры? И главное – на крупные планы дублершу не позовешь! Господи! О чем он думает! Какой контракт! Какие планы! Какие дублерши! Ида больна! И больна серьезно!
Лозинский переставал наматывать круги вокруг домика, взлетал на крыльцо, подбегал к Идиной постели, падал на колени, прижимал к своему лицу ее потные ладони:
– Как ты, милая? Не лучше? Не сможешь сделать три плана? Нет-нет, молчи! Я дурак, прости!
Через несколько дней Ида с трудом поднялась и шатаясь вышла на улицу. Солнце било в глаза. Она зажмурилась – за время болезни глаза отвыкли от яркого света. Дул мягкий легкий ветерок, и Ида почувствовала неожиданное облегчение.
Лозинский бросился к ней.
– Что? Что? Зачем ты встала? Ложись!
Подхватил ее под локоть и попытался увести в дом.
Ида отстранилась.
– Давай попробуем, – с трудом выговорила она, облизывая спекшиеся губы. – Попробуем… доснять.
Лозинский задохнулся.
– Ах, милая! Спасибо!
Он схватил рупор.
Тут же из всех домиков высыпал народ.
Гесс уже устанавливал камеру. Забегали реквизиторы. Костюмерша тащила Иде платье. Гримерша растушевывала на ее лице тон, замазывала круги под глазами, накладывала румяна, жирной помадой красила губы.
Ида встала на обозначенную точку у скал.
«Мотор!»
Она повернулась в сторону камеры и улыбнулась.
«Хорошо, что у нее воспаленные глаза, – подумал Лозинский. – На экране будут светиться потусторонним светом».
Неверным шатким шагом Ида двинулась вдоль берега.
«Чудо! – Лозинский не мог налюбоваться на нее. – То, что надо. Эта неуверенная грация, как будто она сейчас упадет. И второго дубля не надо».
Кто-то тронул его за плечо. Гесс.
– Слушайте, Лозинский, – хмуро проговорил Гесс. – Не хочу вас огорчать, но придется сделать второй дубль. Холостой ход пленки. Она сможет?
– Сможет! – кивнул Лозинский и поднял рупор. – Все по местам! Второй дубль!
Ида снова пошла вдоль берега. Она шла так, будто забиралась в гору, а на ногах у нее были очень тяжелые ботинки. Лозинский поморщился и хотел было остановить съемку, но тут Ида нелепо взмахнула руками, ноги ее подломились, и она упала навзничь.
Лозинский бросился к ней. Вслед за ним бежали все фильмовые.
Ида, мертвенно-бледная, лежала на песке, раскинув руки. Вокруг сомкнутых глаз и губ проступила синева. Волосы слиплись. На шее лихорадочно билась жилка, как будто хотела пробить нежную кожу и вылететь из больного тела. Ида тяжело и хрипло дышала открытым ртом.
Лозинский издал нечленораздельный животный крик, столь несвойственный ему и оттого особенно жуткий, схватил Иду на руки и помчался к домику.
Вечером из близлежащего городка Нахимзон привез доктора – древнего старика в пенсне, поношенном костюме по моде прошлого века, с кожаным саквояжем в руках.
Старичок выстукивал Идину грудь и спину. Приставлял ухо к костяной трубочке. Жевал губами. Протирал пенсне. Вздыхал.
– Вам бы в Баку, в больницу, – наконец пробормотал он. – Я могу ошибаться, но, кажется, задеты легкие.
Собрались быстро. Назавтра молча разобрали декорации, сложили аппаратуру и реквизит.
А из Баку, следуя телеграфным указаниям Нахимзона, уже шли грузовики.
Сам Нахимзон пропадал полдня и вернулся в огромном старомодном лимузине с открытым верхом, невесть где раздобытом. От блестящих яичного цвета боков лимузина резало глаза, и без того натруженные за последние недели слепящим солнцем и песком. Зато имелось широкое пружинное заднее сиденье.
Сиденье забросали подушками. На подушки положили Иду. Подоткнули со всех сторон пледы.
Лозинский сам сел за руль.
Седобородый Феодориди подошел к нему проститься.
– Вот что, господин Лозинский… – Феодориди в нерешительности остановился и, опустив глаза, потрогал пальцем горячий бок лимузина, как будто хотел убедиться, что тот действительно сделан из металла, а не из жареного желтка. – Конечно, это не мое дело, я не имею права вмешиваться, но… Вы слишком увлекаетесь кино.
Лозинский в недоумении посмотрел на него.
– В каком смысле «увлекаюсь»? Это моя профессия.
– Да-да, разумеется, – заспешил Феодориди. – Я только хотел сказать… Берегите мадемуазель Верде. Прощайте!
Он прикоснулся к полям шляпы и отошел.
Лозинский нажал на клаксон, давая всем знак трогаться.
Ехали медленно, осторожно, чтобы не потревожить больную. Лозинский поначалу хмурился. Слова старика произвели на него тягостное впечатление. Как будто он сделал что-то дурное. Как будто в чем-то виноват. Но скоро он тряхнул головой, обернулся посмотреть, как там Ида – та лежала тихо, лишь слегка трепетали закрытые веки, казалось, что прозрачная кожа щек даже слегка порозовела, – успокоился и прибавил скорость.
В бакинской больнице – одной из тех стерильных кафельных лечебниц, напичканных новинками медицинской чудо-техники, что за последние годы выросли во всех крупных городах империи – их уже ждали. Два ловких санитара тут же переложили Иду на каталку. Помчали по длинному, сверкающему белизной коридору.
«Уж не к Господу ли Богу в объятия?» – мелькнуло не к месту в голове у Лозинского, и он понесся следом.