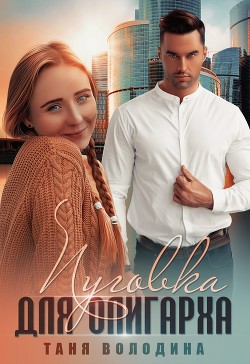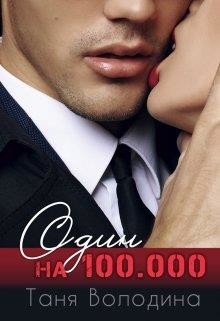— Ложись! — крикнул барон.
И вовремя!
Второй взрыв сотряс старые стены, в воздух поднялись тучи удушливой серой пыли, отовсюду посыпались обломки. Барон подполз к краю и выглянул наружу. Солдаты Стромберга, несущие дежурство на надвратной башне, перезаряжали обе гаубицы. У их ног высилась гора каменных ядер.
— Эй, вы! — закричал Эрик во весь голос. — Прекратите стрельбу, идиоты! Вы попали в мой замок!
— У нас приказ, ваша милость! — заорал в ответ бомбардир и отдал команду: — Первый расчёт — огонь! Второй расчёт — огонь!
Барон пригнулся:
— Юхан, иди вниз, за тобой синьор Форти, потом Мазини, я — последний!
Они протискивались в толще башни, держась за стены и на ощупь находя ступеньки. Стены дрожали от прямых попаданий, но барон надеялся, что вековые камни не обрушатся из-за нескольких ядер. Они способны выдержать мощный артиллерийский обстрел, вопрос один: насколько долгий? Рано или поздно любая крепость падёт.
Они не задержались в караулке, где обломки засыпали стол посредине зала и постель Эрика и Маттео. Вывалились в клубах пыли на кухню, где Марта рыдала у завала, преграждавшего путь к её кладовым.
— Да чтоб эти гаубицы вам жопы разворотили, шведские ублюдки!
— Марта, заткнись! Я тоже швед!
— Всё, ваша милость, всё! Посмотрите, что они натворили! Ни воды, ни еды! Прямое попадание!
Стреляли в основание башни, зная, что без кухни и подвалов узникам не выжить. Половина кухни лежала в руинах, а вход в галерею, которая вела в новое крыло, завалило камнями. Раньше Эрик опасался штурма снаружи, теперь же они сидели в замурованной башне без продуктов и воды, а надоевшее сало казалось недостижимой мечтой. Опасность подкралась откуда не ждали. Все смотрели на барона, словно он владел секретным заклинанием, которое могло их спасти. Эрик сплюнул каменную крошку и тихо, но уверенно сказал:
— Все, кто не шведы, должны немедленно покинуть замок. Это не ваша война. Я приказываю вам спускаться на берег, там безопасно. Я — единственный, кто здесь останется. Стромберг хочет убить меня, а не вас. Марта, где верёвочная лестница?
— Небеса и пончик, они и дымоход расстреляли?! Придётся лепёшку печь в караулке. Суки, где моя мука?!
— Да вон, под столом, мусором засыпало, — Юхан вытащил мешок, и начал его отряхивать. — Кажется, моя бабка была наполовину шведкой — конопатой и кривоногой.
— Дочка, а пустой бочонок найдётся? Пускай твой малец затащит её наверх. Сдаётся мне, ночью пойдёт дождь.
Эрик злобно смотрел на своих непокорных слуг. Его ноздри раздувались от гнева, а щёки покраснели. Он повернулся к итальянцам:
— Синьоры, я больше не могу оказывать вам гостеприимство.
— Маэстро, как вы считаете, достаточно ли окреп мой голос?
Мазини внимательно посмотрел на ученика, чьи глаза блестели непролитыми слезами, а руки сжимались в кулаки.
— Думаю, да, сынок.
— Тогда я намерен сегодня петь.
— Какие произведения ты хочешь исполнить?
— Я хочу исполнить премьерный концерт. Для барона Линдхольма, если он не против.
Эрик порывисто шагнул к Маттео. Увидел запорошенные извёсткой кудри и упрямо сжатый рот, который в этот момент показался ему важнее воды и еды, и сказал:
— Хорошо, синьор Форти. Но потом вы спуститесь вниз и уедете из Калина навсегда. Вы будете петь свои прекрасные песни для просвещённых людей, а не для дикарей, которые сначала преклоняются перед вами, а потом сажают на кол или расстреливают из гаубиц.
Маттео едва слышно напомнил:
— Вы обещали, что никогда меня не оставите.
— Иногда выбора нет. Я лучше оставлю вас, чем потеряю. Здесь слишком опасно, Маттео, вы должны уйти.
— Пойдёмте со мной, — совсем тихо попросил Маттео.
— Чтобы потомок древнего рода Линдхольмов сдался врагу? — Эрик горько улыбнулся. — Никогда этого не будет! Рыцарская честь — последнее, что у меня осталось.
65
Из надвратной башни больше не стреляли. Кучка ядер уменьшилась, и барон понял, что бомбардировку отложили на завтра.
Несмотря на обстрел и разрушения, все пребывали в праздничном настроении. Мазини и Маттео репетировали наверху, Марта пекла в караулке хлебцы, а Юхан, Ганс и поварёнок разбирали завалы на кухне.
К вечеру все освободились, почистили одежду от грязи и поднялись наверх. Солнце подсвечивало облака закатным розовым сиянием, море успокоилось, и летние сумерки окутали притихший город. Первый день под властью нового правителя благополучно заканчивался. Ветер доносил запах цветущего в садах жасмина и дым костров с Ратушной площади: солдаты разбили бивак прямо у Ратуши, где их генерал всё ещё праздновал победу. На дрова порубили тюремный эшафот. Порой до осаждённых долетали непонятные русские слова, порой — грубый солдатский смех, одинаково звучавший на всех языках.
Мазини усадил барона на мягкий стул, а менее знатных гостей — на скамейки у каменных зубьев. Раздал всем концертные программы, хотя не каждый из собравшихся мог прочесть рукописные строчки. Затем вышел на импровизированную сцену, где стоял столик со скрипкой и нотной тетрадью, и церемонно поклонился публике:
— Уважаемые господа и дамы! Позвольте представить вашему вниманию моего любимого ученика Маттео Форти.
Из дверки, ведущей на лестницу, неловко пригибаясь, вышел Маттео. Он был в том же белоснежном шёлковом костюме, расшитом райскими птицами, который врезался в память барона. На голове — обруч с разноцветными перьями, лицо тронуто пудрой, а губы подведены красной помадой. Позади барона раздались громкие одобрительные хлопки.
Маттео кивнул маэстро, и тот взял скрипку. Лёгкие нежные звуки поплыли в прозрачном воздухе. Невыразимо грустная мелодия, чей простой, но запоминающийся рисунок казался смутно знакомым и родным.
— Сорви розу, но не трогай шипы: ты ещё найдёшь свою боль.
Голос кастрата — утончённое наслаждение для слушателей, оплаченное кровью, болью и страхом ребёнка. Голосовая щель, узкая, как у мальчика до начала созревания, и лёгкие, как у взрослого мужчины, десятилетия изнурительного труда и капелька божьего таланта — всё это воплотилось в блестящее, восхитительное, ангельское пение. Такое сладостное, что на глазах вскипали слёзы, а дыхание останавливалось. Любой, кто слышал пение кастрата, замирал в слепом благоговейном восторге.
— Незаметно тронет иней цветок твоей жизни.
Маттео пел просто и свободно, словно это ничего ему не стоило. Необыкновенная простота исполнения лишь подчёркивала мощь его голоса. Упоительные звуки лились, как волшебный неиссякаемый водопад. Он щедро украшал своё пение хрустальными переливами, руладами и головокружительными мелодичными пассажами. Он выпевал ноты так высоко и чисто, что зрители в испуге хватались за сердце. Его нечеловечески сильный, гибкий, звеневший чистым серебром голос накрыл зубчатую башню с голодными узниками, скалистый аристократический холм и весь остальной Калин. Он протянулся нежным шлейфом над Балтикой и заставил пьяных матросов прислушиваться к далёкому пению то ли ангелов, то ли сирен. Но самое главное — этот голос взлетал вверх, вверх, к подножию Его трона, и не было никаких сомнений, что господь утирал светлые слёзы точно так же, как это делали все, кто слушали сегодня Маттео Форти.
— Сорви розу, любимый, но не трогай шипы…
Ах, если бы он мог! Барон искал и не находил для их запретной любви ни единого шанса. В Нижнем городе Маттео заклеймили еретиком и приговорили к изгнанию. В Верхнем — Стромберг поклялся убить их обоих. Маттео должен покинуть Эстляндию! Если повезёт, русские пропустят через свои позиции двух несчастных беглых итальянцев, но — шведского барона? В разгар войны между Швецией и Россией? На миг представив, что придётся умолять русских о пощаде, барон впадал в беспросветное отчаяние.
То, что осталось от его растоптанной мужской гордости, острыми шипами рвало сердце. Он предал своё тело, отдав на растерзание во имя любви, но нарушить государственную присягу и унизиться перед врагом означало убить в себе не только мужчину, но и рыцаря, аристократа, гражданина. Не останется ничего, за что он мог бы себя уважать. Человек, павший так низко, не заслуживал ничьей любви!