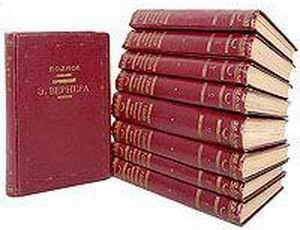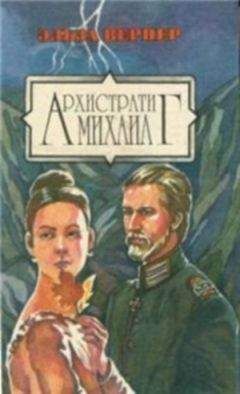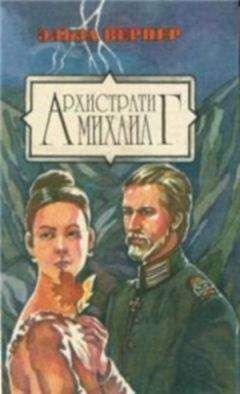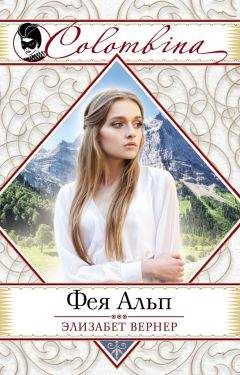— По-моему, у вас нет никакого основания торжествовать, — мрачно сказал Эгберт, — на ваш вызов Дернбург ответил увольнением массы рабочих.
— Этого следовало ожидать, и мы основательно подготовились к такому противодействию.
— То есть, лучше сказать, вы на это рассчитывали! Что же будет теперь?
— Теперь надо или нагнуть его, или сломить. Или старик отменит свое распоряжение об увольнении рабочих, или на всех его заводах остановятся работы.
— Дернбурга вы не нагнете, а сломить его у вас не хватит сил. Зато у него достаточно силы, чтобы сломить вас, и он беспощадно воспользуется ею, если вы поставите его перед таким выбором. Пусть его заводы будут стоять несколько недель или месяцев, он выдержит, а вы нет; забастовка не принесет результатов, и руководители нашей партии не желают ее, да и вообще никогда не желали; теперь они категорически высказались против нее.
— Вот как! Вот как! Вероятно, ты сделал все, чтобы настоять на таком решении? — спросил Ландсфельд, бросая на Рунека язвительный взгляд. — Ты ведь теперь один из вождей! Ты моложе всех, а между тем больше всех склонен к деспотизму и, как кажется, уже успел порядком прибрать к рукам остальных!
Рунек сделал гневное, нетерпеливое движение.
— Неужели у тебя на уме только личная неприязнь ко мне, когда дело касается интересов целой партии? Я приехал, чтобы передать тебе указание не доводить дела до крайности; выполняй же его.
— Очень жаль, но уже поздно! — спокойно возразил Ландсфельд, — требования уже предъявлены, и забастовка в случае их непринятия неизбежна. Рабочие не могут отступить, и в Берлине должны понимать это.
— Ого! Вот когда ты показал свою настоящую личину! — раздраженно крикнул Эгберт. — Значит, ты, постоянно ратующий за дисциплину, действовал самовольно?
— Да, на собственный страх! Надо же было наконец вывести трусов-оденсбергцев из их спячки. Какого труда мне стоило настоять на твоем избрании, как мы старались работать, и все-таки до последней минуты все было под вопросом. Наконец эта ленивая масса пришла в движение; теперь необходимо толкать ее вперед.
— Куда? К верной неудаче! Они последовали за вами к избирательным урнам и теперь еще слепо идут следом — чад победы еще кружит их головы; вы убедили их, что вы всемогущи. Но этот чад скоро пройдет. Как только рабочие опомнятся и поймут, что они теряют, выступая против хозяина Оденсберга, и чем рискуют из-за этого их жены и дети, ты и недели не удержишь их, они сломя головы побегут назад к Дернбургу. Но он будет уже не тот, он не простит оскорбления, нанесенного ему.
Рунек говорил все с большим волнением. Ландсфельд продолжал спокойно сидеть, не сводя с него глаз, и злая улыбка заиграла на его губах, когда он возразил:
— Ты как будто находишь совершенно резонной такую месть со стороны старика. На чьей, собственно, стороне ты стоишь?
— На стороне разума и права! Выбирать меня, а не Дернбурга, оденсбергцы имели право, даже он не может оспаривать это, как бы глубоко ни был оскорблен; но то, что его рабочие на его же заводах праздновали мою победу, что они чуть не под его окнами устроили праздник, торжествуя его поражение, это наглый вызов, и он только заслуженно отплатил им.
— В самом деле? Заслуженно? — повторил Ландсфельд, и его тон должен был бы предостеречь младшего товарища, но тот продолжал с возрастающей горячностью:
— Ты подстрекал рабочих через Фальнера, заставил их предъявить безумные требования, сводящиеся к чудовищному унижению их хозяина! Неужели вы действительно так плохо знаете этого человека? Или вы хотите просто начать войну с ним не на жизнь, а на смерть? Ну, так вы получите, что желаете! Дернбург достаточно долго был покровителем своих рабочих, теперь он покажет себя в роли властелина. И он прав! Я на его месте поступил бы точно так же!
Горький хохот Ландсфельда остановил Эгберта.
— Браво! О, это неоценимое признание! Наконец-то ты показал свое настоящее лицо! Это был сам оденсбергский старик, как живой! Он воспитал достойного ученика! Как ты думаешь, что будет, если я донесу в Берлин о том, что только что услышал?
Рунек сам почувствовал, что зашел слишком далеко, но это только подстегнуло его.
— Как тебе угодно. Неужели ты думаешь, что я позволю поработить себя до такой степени, чтобы не сметь свободно высказать свое мнение, даже находясь в обществе своих?
— Своих! В самом деле ты еще оказываешь нам такую честь — считаешь нас «своими»? Правда, ты ведь наш депутат! Я предостерегал о возможных последствиях, потому что давно знаю, к чему мы в конце концов придем с тобой; меня не слушали, хотели получить «гениальную силу» для нашего дела, а потому требовалось пустить в ход все средства, лишь бы добиться твоего избрания. Это было самое трудное из всего, что сделано нами в последние выборы, и для кого сделано! Скоро, конечно, и другие прозреют.
— Если ты хочешь помочь им прозреть — сделай одолжение, — жестко и гордо сказал Эгберт.
Ландсфельд вскочил и вплотную подошел к нему.
— Пожалуй, ты будешь доволен этим? Ведь ты буквально ведешь дело к разрыву. Не трудись, мой милый, мы не сделаем тебе такого удовольствия, мы не освободим тебя! Если тебе угодно будет стать изменником, перебежчиком, пусть весь срам падет на твою голову.
При этих насмешливых словах губы Рунека искривила горькая усмешка.
— Изменником? Так вот что мне приходится выслушивать за то, что я предан вам телом и душой, что принес вам в жертву будущее, такое будущее, какое редко кому выпадает в жизни!
— И теперь ты, разумеется, раскаиваешься?
— В том, что принес жертву, — нет, но в том, что вступил в вашу партию, — да.
— По крайней мере, ты откровенен, — насмешливо сказал Ландсфельд. — Ты бесцеремонно говоришь нам, в какую передрягу мы попали, избрав тебя, но этого уже не изменишь, и тебе придется волей-неволей исполнять свои обязанности в рейхстаге. К счастью, у всех еще свежи в памяти твои предвыборные речи; ты сам подрубишь сук, на котором сидишь, если вдруг вздумаешь теперь затянуть другую песню. И еще одно: не вздумай, чего доброго, вмешаться в оденсбергские дела — ими занимаюсь я. Я сумею оправдаться перед своим начальством; смотри, как бы тебе оправдаться; просто так тебе не удастся от этого отделаться, будь уверен!
Ландсфельд повернулся к товарищу спиной и, не простившись, вышел из комнаты.
Эгберт остался один и погрузился в раздумье. В его ушах навязчиво звучали слова, которые Дернбург сказал ему при расставании: «Ты мог бы стать хозяином в Оденсберге. Посмотрим, как отблагодарят тебя твои товарищи за чудовищную жертву, которую ты им приносишь!» Он только что получил эту благодарность.