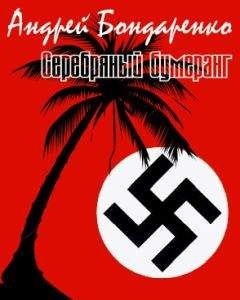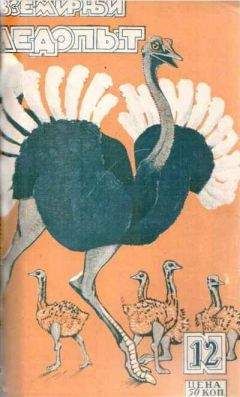Эммелина взяла в руки Библию, но в тряском дилижансе читать было немыслимо – книгу пришлось отложить. Она закрыла глаза, надеясь, что сможет поспать. Но стоило векам смежиться, как вспомнился сразу родной чердак, и, спеша поскорее стряхнуть наваждение, она снова открыла глаза. В этот момент дилижанс тряхнуло на редкость сильно и маленькая девочка, повернувшаяся, чтобы рассмотреть Эммелину, слетев со скамейки, плюхнулась ей на колени, не удержавшись, свалилась на пол да так и застряла между сиденьем и ногами Эммелины. Мать же, вместо того чтобы поднять ее, принялась громко орать на жалобно плачущую девчушку.
– Простите, мисс, – обратилась она затем к Эммелине (развернувшись, как прежде дочка, и сидя теперь к ней лицом), – вы понимаете, у нее ненарочно так получилось. – Слова, произносимые молодой женщиной, звучали странно и непривычно, и Эммелина с трудом понимала ее.
– Что вы, ничего страшного, – ответила она. – Можно я помогу ей подняться?
Услышав эти слова, девочка тут же успокоилась, замолкла и снизу вверх глянула на Эммелину. Как и у матери, у нее были большие карие глаза и цвет кожи темнее, чем Эммелине случалось когда-либо видеть. Без колебаний позволив взять себя на руки, она прижалась к груди Эммелины с такой доверчивостью, словно всю жизнь провела у нее на коленях. Матери было не так легко успокоиться. Прислонясь к стенке, она тихо плакала, а старший мальчик – ему, наверное, было лет пять – смотрел в окно, вскакивал поминутно, чтобы лучше все видеть, и беспрестанно получал от матери предупреждение: вот сейчас упадешь и кого-нибудь ушибешь. Наконец Эммелина сообразила, что женщина говорит на каком-то диалекте, и стала внимательно прислушиваться, стараясь выуживать легче распознаваемые слова. А между тем младенец на коленях у матери вел себя беспокойно. Тревоги большого мира еще не коснулись его, но он тоже, казалось, страдал, реагируя на страхи и волнения матери.
– Они, наверное, слишком малы для таких путешествий, – робко сказала Эммелина, и это замечание сразу же вызвало бурный поток слез, сопровождаемый столь же бурным рассказом, в котором поначалу она угадывала лишь крохи, но потом, постепенно сориентировавшись, начала понимать почти все.
Выяснилось, что муж юной особы был очень, да-да, очень старым (а может быть, просто гораздо старше ее). Во время кампании двенадцатого года он воевал с англичанами. Жена его умерла. Дети, став взрослыми, разъехались; кажется, переселились на Запад. А ему шел уже пятьдесят второй год, когда они встретились в Монпелье, штат Вермонт (ее семья перебралась туда из Монреаля, переезжали, еще когда жив был отец). Ей было пятнадцать, и о замужестве она даже не думала. Их было двенадцать детей у матери, жили они в крайней бедности, а без чужой помощи и вообще не справлялись. Потом вокруг начали поговаривать о фабриках, открывавшихся на Юге, в Манчестере и Лоуэлле. И до встречи с Уолтерсом (или Уотерсом, или Отерсом) она собиралась туда поехать. О женихах она не мечтала и рада была бы никогда не выходить замуж, а просто работать, покупать себе новые платья и вволю есть леденцы. Но Уолтерс проездом попал в Монпелье, и, прежде чем она сообразила, что к чему, они уже поженились (а ведь она была совершенно уверена, что он ухаживает за матерью). После свадьбы он сразу повез ее через штаты Нью-Гемпшир и Мэн в город Халлоуэлл, где надеялся разыскать родственников, которые, как он считал, там жили. Родственников нигде не обнаружилось; за пять лет она трижды беременела и трижды рожала, а ему вдруг приспичило ехать на Запад – следом за взрослыми сыновьями… Конец этой фразы потонул в море слез, что, можно сказать, обрадовало Эммелину, так как давало ей передышку. Щеки пылали: никогда прежде не доводилось ей слышать такой откровенности. Дома, когда мать была в положении, говорить об этом было не принято, а сказать прямо – и вовсе немыслимо. Она вопросительно глянула в сторону Ханны, но та дремала – глаза были закрыты.
А настроение молодой женщины, успевшей сообщить Эммелине, что в Лоуэлле она хочет зваться Флориной, вдруг резко переменилось. Она заявила, что хочет начать все сначала. Ей двадцать три года – хоронить себя рано. Устроившись на работу, она, может, сумеет пристроить Бернарда. Он старший, ему уже пять, и в съемщики он сгодится. Для своих лет мальчик шустрый, а эту работу почти всегда делают дети; во всяком случае, так говорила ей одна девушка с фабрики, Ханна по-прежнему продолжала сидеть с закрытыми глазами, но выражение лица, пожалуй, стало жестче. Окинув взглядом спавшего на руках у Флорины кудрявого малыша и крошечную девчушку у себя на коленях, Эммелина подумала, но спросить не посмела, что будет с ними, если мать станет работать. Но, как бы почувствовав этот вопрос, Флорина сама заявила, что непременно разыщет такой пансион, где хозяйка возьмется не только сдавать жилье, но и присматривать за детьми.
– А разве в Лоуэлле есть такие пансионы? – удивилась Эммелина.
– В Лоуэлле есть все, – яростно возразила Флорина, так нажимая на каждое слово, что, невзирая на диалект, не понять ее было нельзя. – Нелли Палмер провела в Лоуэлле два года, – продолжала она тем же тоном, намереваясь, хотя Эммелина не стала с ней спорить, до конца выдать все доводы в защиту своей точки зрения, – и вернулась с четырьмя платьями, двумя шляпками, шалью и кружевами для подвенечного наряда. И это притом, что она и домой деньги слала. Вот так!
Держать на руках малышку, которую звали Маргарет, становилось все тяжелее, да и скамейка, казалось, делалась все неудобнее. Устав от длинных излияний, Флорина не то заснула, не то забылась. А Эммелина сидела, застыв в неподвижности: стоило ей шевельнуться, крошка сразу вцеплялась в нее какой-то судорожной хваткой. И когда вечером они остановились на ночлег, продолжала держаться за Эммелину и, плача, не соглашалась ее отпускать, пока та наконец не дала слово, что ночью они будут спать на одной кровати. Ханна, по-прежнему не разговаривавшая с Флориной, услыхав о таком договоре, только сказала, что это глупо.
Ужин был очень вкусным, подали даже жаркое (Эммелина едва могла вспомнить, когда же она в прошлый раз ела мясо). Прибывшие дилижансом семеро взрослых и трое детей расположились за столом вместе с хозяевами и еще тремя путешественниками, которые собирались сразу же после трапезы, невзирая на поздний вечер, двигаться дальше, в Портленд. После ужина остающихся на ночлег провели в «помещение для гостей». Это была большая комната, футов сорок в длину. Возле стены рядком стояли кровати. Одну от другой отделял промежуток фута примерно в два, и у каждой в ногах стоял стул. В общем, голо и неуютно, но, безусловно, опрятно и чисто, как справедливо заметила Ханна. Кому где спать, решено было быстро, без лишних слов.