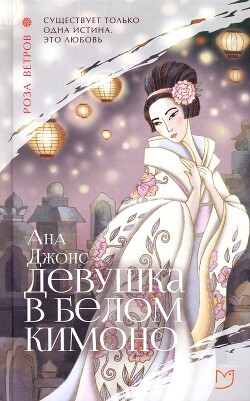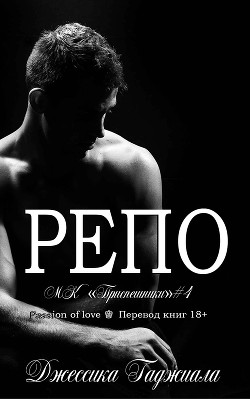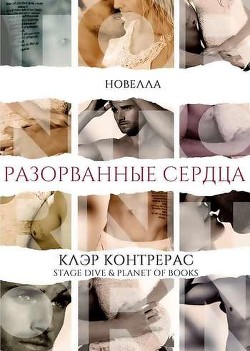— Еще раз. Давай. Тужься! — эти слова произносятся с такой властью, что я полностью ей подчиняюсь.
Я впиваюсь ногтями в кожу, крепко сжимаю веки, живот, сжимаюсь всем своим существом. Между сомкнутых зубов прорывается рык, губы приподнимаются, обнажая зубы.
— Вот, головка полностью вышла, хорошо. Хорошо, — она хлопает меня по колену. — Теперь подожди. Замри.
Я мешком падаю на спину. Сора подхватывает меня в свои объятия. На мгновение я испытываю облегчение. Боль лишила меня восприимчивости, но я ощущаю странное давление между бедрами, присутствие чего-то незнакомого, и не смею пошевелиться.
Сердце лихорадочно бьется. Монахиня разговаривает очень тихо, но быстро. Я слышу ее слова, но не различаю их. Перед глазами пляшут яркие точки.
— А теперь будем рожать. Готова? Помогите ей приподняться. Помоги ей приподняться, дитя.
— Нет... нет, — мне нужна еще хотя бы минута. Одна минута. Я так устала. Но меня никто не слушает.
Сора подхватывает меня под спину и толкает вперед. Все внутри меня горит и выворачивается. Напряжение растет. Они что-то говорят, но их слова лишены смысла. В ушах стучит кровь. На моих руках, вцепившихся в колени, выступили вены. Комната заполняется звуками молитвы. Там за дверями тоже кто-то молится? Один голос превращается во множество, и мой крик перекрывает их все.
— А-а-а-а-а! — я обнажаю зубы.
И тужусь.
Тужусь.
Тужусь.
А потом все мое тело содрогается от облегчения. Грудь блаженно вбирает воздух. Сора осторожно кладет меня на спину.
Песня закончилась.
— У тебя девочка! У тебя девочка!
Девочка. Я лежу неподвижно и дышу, наблюдаю. Я знала, что это будет девочка. Звучат голоса, но я не понимаю, что они говорят.
— Маленькая, — доносится до меня, потом что-то о весе.
Сора гладит меня по голове и улыбается. Монахини тем временем занимаются моим ребенком. Я вижу ее лишь мельком. Темные волосы, у нее темные волосы! Я напрягаю уши, напряженно ожидая ее крика. Я должна услышать, как она закричит.
Я ревностно слежу за их руками, чтобы успеть заметить тянущиеся к ее носу пальцы.
— Не трогайте ее лицо! — визжу я, изо всех сил напрягая глаза, стараясь ее увидеть. — Не трогайте моего ребенка!
Ну почему она не кричит?
Пожалуйста, пусть она закричит.
И я кричу за нее, охваченная паникой.
Вдруг послышался кашель. Потом вдох, а за ним в воздух вырвался один, но ясный крик возмущения.
Это самый замечательный звук на свете, полное обещаний провозглашение появления на свет, смягченное крохотным размером легких. Я начинаю всхлипывать, и по моим щекам текут тихие слезы.
Она закричала.
Она жива.
У нас получилось.
— Пожалуйста, — произношу я, протянув к ним раскрытые руки, жаждущие ее коснуться. — Прошу вас, мой ребенок...
Монахиня в очках укутывает ее в ткань абрикосового цвета и начинает тихо говорить.
— Однажды Будду спросили: «Скажи, ты целитель?» — «Нет», — ответил он. «Значит, ты учитель?» — «Нет», — снова сказал Будда. «Так кто же ты?» — вопросил изумленный ученик, — монахиня подходит ко мне и протягивает мне дочь. И тогда Будда ответил: «Я — бодрствую».
Взгляд монахини встречается с моим.
— Она совсем кроха, но она тоже бодрствует, говорит она.
— О... — я прижимаю ее к себе, но не ощущаю ее веса. Я обеспокоена и очарована — звуками, которые она издает, ее запахом, ее крохотными чертами. И тем, как она почти помещается мне в ладонь.
Дочь. Хаджиме, у нас с тобой родилась дочь.
На макушке ее узенькой головки красуется пучок черных волос, как у морковки. Я озадаченно моргаю и поднимаю глаза на монахиню в очках.
Она улыбается в ответ.
— Волосы отрастут, — она оглядывается на вторую монахиню, и они тихо смеются. Это секрет умудренных опытом.
Я жадно всматриваюсь в каждую мелочь, хочу увидеть каждый волосок, каждую складочку. Она такая тоненькая. Я глажу ее щеку, касаюсь крохотной ямочки на подбородке и смеюсь. Как у Хаджиме. Я улыбаюсь Соре и монахиням и поясняю:
— Ямочка как у папы. Прямо в точности как у него.
Ее крохотные губки дрожат, а каждый вдох сопровождается тихим сипом.
— У нее не полностью сформировались легкие, но тебе повезло, что она родилась девочкой, — говорит монахиня. — У мальчиков легкие формируются в последнюю очередь. У нее хотя бы есть шанс, — и монахиня поправляет импровизированную пеленку, чтобы увидеть ее лицо. — Она кроха, но у нее есть шанс.
Малышка освобождает ручку и взмахивает ею в воздухе. Я приближаю ее к себе, чтобы рассмотреть: пять тонких пальчиков с малюсенькими ногтями сразу смыкаются вокруг моего пальца. Она недоношенная, больная и совершенная.
— Здравствуй, моя Акачан.
Ее огромные мерцающие глаза ищут источник звука.
— Только посмотрите, — говорит старшая монахиня. — Она тебя знает.
Я заглядываю в ее глазки. Они глубоки, как воды океана, блестящи и темны, и я тут же в них тону. Да, мой ребенок знает свою мать. Мы частенько с ней вели беседы: «Я так долго тебя ждала» и «Вот и я, вот и я».
Да, моя маленькая птичка, вот и ты.
Живая.
* * *
Кто-то тихо напевал, не открывая рта. Этот мягкий горловой звук пробудил меня от сна. Я моргаю. Полуденный свет наполняет маленькую комнату и заливает лицо поющей монахини. Она улыбается, не размыкая губ. Ее нос морщится, а вокруг спокойных глаз собираются морщинки. И я не могу не ответить на ее улыбку. В моих руках спит моя крохотная девочка.
Мы вместе, в тепле и безопасности.
Она родилась раньше срока, ей тяжело дышать, но она жива, и мое сердце переполнено счастьем.
Когда монахини предложили ее забрать, чтобы я могла отдохнуть, я отказалась. Я просто не могла не видеть ее. Поэтому они решили, что кто-то из них остается с нами, чтобы проследить за ее состоянием, пока мы спим.
Она туго спеленута, так что торчит только головка. Краснота кожи прошла, и я вижу, какого она цвета: на тон светлее, чем я, но с каким-то нездоровым оттенком. Он еще более заметен благодаря ее черным волосам, темным ресницам и розовым сжатым губам, которым следовало бы активнее кушать. Она очень красива, но слаба, и от этого сами собой льются слезы.
— Вы так добры, — говорю я напевающей монахине. — Мне так повезло попасть к вам, спасибо!
Эта комната пуста, не считая двух футонов, лежащих друг возле друга, и стула, но она наполнена покоем. А этого сокровища я была лишена уже долгое время.
— Везет многим, но мало кому удается овладеть судьбой, — голос поющей монахини хрипловат, но приятен. — Монетку на удачу можно подбрасывать сколько угодно, дитя, но судьбе принадлежат обе ее стороны. Ты должна была здесь оказаться, и удача не имеет к этому никакого отношения, — она улыбается, по-прежнему не открывая зубов. Может, их у нее нет?
Я улыбаюсь в ответ и бросаю взгляд на пальчики дочки. Она зевает, и пальцы подрагивают возле ее открытого рта. Я смеюсь. Каждое ее движение чудесно.
Дверь в комнату отодвигается, и входят монахиня в очках, Сора и еще одна женщина — не монахиня. На ней зимнее шерстяное кимоно, украшенное изображением заснеженных сосен. Ее волосы собраны в тугой узел в основании короткой шеи. Она сразу же опускает глаза на моего ребенка.
— Ах, привет, приве-е-ет, — воркует она мягким мелодичным голосом. Ее узкие глаза излучают свет, несмотря на то что они густого черного цвета.
Я прижимаю девочку к себе еще крепче.
— Наоко, помнишь, как меня зовут? — спрашивает монахиня в очках. — Я — сестра Сакура.
Это сестра Момо, — она указывает на напевающую монахиню. — А это — Хиса. Она будет кормилицей для твоего ребенка.
Кормилица?
Сестра Сакура сдерживает смех, и очки немного съезжают виз по носу.
— Да ты у нас кожа да кости. Сомневаюсь, что у тебя наберется достаточно молока, если оно у тебя вообще будет. Поэтому мы решили подкормить вас обеих, — она протягивает ко мне руки и шевелит пальцами, чтобы я передала ей свою спящую девочку.