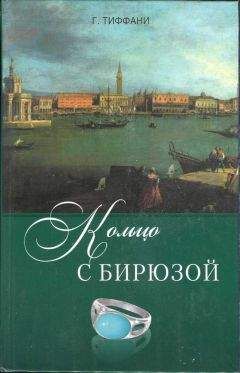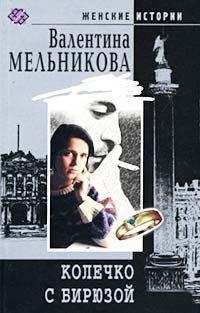Софья помнила застолье в честь именин отца, когда услыхала, что все они, отпрыски боярина Норова, разного понахватались. Митьку самолично пестовал отец, Мотька – любимец развеселого писаря Никеши, которого не стало лет семь тому, а вот она, смурная боярышня, – всехняя, но и ничейная.
Про себя Софья мыслила, что она материна. Любила ее до слез и почитала выше иных. Все разуметь не могла, как мать, какая ни разу ни на кого не крикнула, так крепко держит в своих руках немалое Порубежненское хозяйство. Как смогла улыбчивая и добрая женщина ужиться с суровым отцом, да быть той одной, с кем он смеялся счастливо и зубоскалил похуже шебутного Мотьки. Сама же боярышня, если кого и боялась, так только матери и ее горестного взгляда в тот миг, когда узнавала она о дочери дурное.
Софья тяжко переносила материну печаль о ней, и всякий раз, когда такое творилась, бежала к ней в ложню, садилась на пол у ног и клала голову ей на коленки. Боярыня Настасья никогда не начинала разговора первой, ждала слов дочери, а та вину свою разумела только лишь при матери и начинала говорить. И так обсказывала, и эдак, а под конец только и понимала, что виноватая кругом.
Мать целовала Софьюшку в кудрявый висок, мягко гладила шелковистые волосы и прощала. Много время спустя, молодая боярышня поняла – начни мать ругаться, так и проку в том не было бы: пока сама не разумеешь, никто в голову не втолкнет.
Но промеж того Софья и у других невольно перенимала науку: у отца взяла мудрости сколь смогла постичь, у дядьки Ильи – торгового проворства ухватила, у тётки Ульяны поднаторела во власти, а у Шаловской большухи Ольги выучилась метать стрелы.
И ведь училась не с того, что хотелось, а со скуки. А как иначе? В девичьей тоскливо, муторно, а Софья того не терпела. Сидеть сиднем весь день – не по ее нраву. За то частенько ругали ее тётка Ульяна, любившая уряд во всем, да отец, который дивился характеру дочери, ее упрямству, своеволию и непоседливости.
И отец, и тётка силились сладить с Софьей, да остались ни с чем. Угомонила молодую боярышню мать, отпустив ту бывать на реке, глядеть на ладьи и говорить с приезжими, а потом и ведать делами торговыми, считать мыт и мзду с лотошников. Соня помнила, как боярыня Настасья без слов выслушала упрёки мужа и тётки в потакании, но на своем настояла и дала воли боярышне столь, сколь смогла.
Теперь воля та взросла, расцвела: властвовала Софья, делами ведала, еще и злата стяжала для рода Норовых. Правда, исподтишка. А как иначе? Можно ль девице верховодить? Урядно ли указывать? Для того в помощь ей был дядька Илья. Но таись, не таись, а народец знал, в чьих руках торжище.
Промеж того Софья и людей училась разбирать, вот то и было самым интересным.
Вот взять братьев: старшого Митьку считала оплотом. Сам отец прочил ему боярство, с того и передал под руку полусотню, обучил мечному бою и премудростям рати. Софье думалось, что Митяй с тем и родился – оборонять, властвовать и творить суд. Знала боярышня, что боярский долг лежит на старшем брате, держит его и правит его жизнью. Вся его судьба была известна с самого начала и до конца.
С Мотькой любопытнее! Софье-то виделся он прибаутником, потешником, иным разом и вовсе полоумным, а на поверку-то все иначе. Матвей – скрытный, хитрый. Вытянуть из него правду – семь потов пролить. Боярышня принялась за ним подглядывать, да узнала многое, чего не ведал никто: в мечном бою равных ему не было, уступал и сам отец, и старшой брат. Торговаться с ним – напрасно тратить время, а отправить уговариваться – знать, что его возьмет. Болтун болтуном, а уж год ходил на ладье, да за собой еще две водил. Возвращался завсегда с прибытком и с глумливой улыбкой на наглой морде.
Вот с такой улыбкой и смотрел сейчас Матвей Норов на сестру. Софья глянула на брата и разумела – с такой, да не с такой. На самом донышке его ясных серых глаз почудилась боярышне печаль и толика тревоги.
– Мотя, что ты? – Софья шагнула с приступок, двинулась к брату и подняла голову в глаза ему заглянуть: средний высоким уродился.
– Я-то что, вот ты… – Матвей улыбку спрятал и мазнул взглядом по старшему.
Тут Софья и затревожилась, однако, вида не подала по привычке:
– Вызнал чего? Дурное стряслось? – обернулась на Митю: – Дай догадаюсь, опять сватать меня пришли? И чего насупились, впервой разве? Матушка не отдаст против воли, – высказала и перекинула толстую косу за спину, еще и нос задрала высоко.
– Соня, – Митька голосом потеплел, – нынче отлуп боком выйдет. Просят тебя для боярича Павла Аксакова из княжьего городища. Отец его высоко летает. Сватать будет сам князь, а князьям не отказывают.
Софью жаром обдало, а вслед за тем и злобой. Того братьям не показала, стояла, высоко подняв голову, взглядом высверкивала:
– В городище невест мало? Почто в такую даль за мной? Вот дурень, – Софья загодя сердилась на жениха.
– Ты первая невеста в княжестве. Приданого за тобой немеряно, да и красавица не из последних, – Матвей не шутковал теперь. – О тебе слава далече идет, ладейщики разнесли, сам слыхал. Сидела б в дому, глядишь, и миновало, а ты всякий день на торгу, на глазах у людишек. Тебе бы мужа потише, чтоб в рот заглядывал и не спрашивал многого. А тут из рода Аксаковых, с ним сладь, попробуй. Норов у тебя Норовский, сестрица. Павел твоего своеволия терпеть не станет. Разумеешь ли? – средний брови свел к переносью, видно, за сестру тревожился.
– Верно, Мотька, – Митяй кивнул головой. – О прошлом годе, когда с батей в городище к князю ездили, слыхал я об том бояриче. Вой крепкий, почитай всякий месяц по заставам ратных своих водит. В бою бешенный. Боярин Аксаков передал сыну часть надела до срока. Так Павел за год едва ли не вдвое казну пополнил, теперь их хозяйство одно из самых богатых. Кого ж ему сватать, если не боярышню Норову? Разве что княжну?
Вот тут Софья задумалась, разумев, что участь ее решена: князьям не отказывают, а стало быть, отдадут Павлу. И не то, чтобы боярышня испугалась, знала, что замужество не минует, но тоской обдало, утратой. А как иначе? Знала, конец пришел и вольнице ее, и отраде. Разве муж позволит из дома выходить? Сидеть теперь в светлице сиднем и вышивать.
– Сонька, чего сморщилась? – Матвей снова ехидничал. – Не робей, сестрица. Ежели кривой будет иль плешивый, я тебя на ладью к себе посажу и увезу подале.
Софья от тоски улыбнулась братцу. А как иначе? Любит ее, о ней тревожится.
– Свят, свят… – Мотька обомлел. – Глянь, братуха, лыбится. Такого с зимы не припомню. Софья, не пугай, – осерьезнел. – И не бойся. В обиду не дадим.
– Верно, – Митька вздохнул. – Сам буду говорить с отцом, чтоб не неволил. Супротив князя не попрешь, но вот против Бога никто слова не кинет. Свезем тебя в Мураново, там торг есть и Тихонова пустынь рядом. Обскажем, что на богомолье ты. Просидишь до зимы, а там, глядишь, позабудет о тебе боярич Аксаков.
– Братики мои, родненькие, – Софья обняла обоих разом. – Дай вам бог.
– Светопреставление, – изумленный Мотька обнял сестру. – Сонька, дурочка, чему радуешься? Род Аксаковых крепкий, богатый. Раздумай, бежать от такого жениха, нет ли?
– Соня, – Митька погладил сестру по головушке, – Павел вскоре на погляд явится. Отец сказал, что идет ладьей от Стрешен. Ты посмотри на него, слово хоть какое кинь. Авось сладится?
– Когда явится? – Софья отпустила и старшего, и среднего, наново стала гордячкой.
– Со дня на день.
Боярышня подумала малое время, а потом полезла в рукав и достала орех. Разгрызла его, пожевала в охотку:
– Ну так не явился еще, чего ж трепыхаться? – пригладила поясок, шитый золотом. – Я на торг. Со мной вы, нет?
– Вот зараза ты, Сонька, – Матвеевы брови высоко поднялись. – Хоть слезину-то урони. Девка ты иль бревно какое? Ее сватают, а она на торг. Кроме злата думать не о чем? Не пойду с тобой. А ты ступай, стряси еще горсть серебра с людишек, возрадуйся, – повернулся и пошел за угол хоромины, там уж обернулся и улыбнулся белозубо. – Бежать вздумаешь, так я тебя долго везти буду. И в Стрешни зайдем, и в Лихое. Могу и до Большеграда, а потом обратно через Рыбино. Вот там торг чудной, тебе понравится.