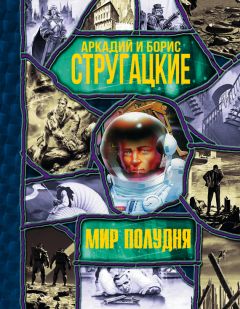Всякая перемена казалась нереальной в моем новом мире, но с Мелиссой мы все-таки обменивались посланиями достаточно регулярно. Пару раз пришли письма от Клеа и — что было просто удивительно — от старого Скоби. Он, казалось, был оскорблен, что так скучает по мне: невероятно агрессивно и презрительно обрушивался на евреев (называя их не иначе, как «обрезанцы»), как ни странно, на педерастов (этих он окрестил «гермы», то есть гермафродиты). Совершенно не удивил меня тот факт, что «Сикрет сервис» дала ему отставку и теперь он проводил большую часть времени в постели с бутылкой виски под рукой: его заставило со мной переписываться одиночество.
Письма знакомых мне помогали. Порой чувство нереальности происходящего становилось столь явственным, что я не верил своим воспоминаниям и с трудом мог заставить себя поверить, что есть еще где-то городок Александрия. Переписка, подобно пуповине, тянулась в тот мир, где меня больше не было.
Сразу же по окончании рабочего дня я запирался в комнате и залезал в постель. Рядом лежала зеленая малахитовая коробочка с сигаретами, набитыми гашишем. Мой образ жизни вызывал замечания, но к работе претензий не было. Упрекнуть человека за тягу к одиночеству очень трудно. Отец Расин, действительно, пару раз попытался растормошить меня. Он превосходил своих коллег умом и развитостью чувств и, наверное, понимал, что дружба со мной могла бы скрасить его интеллектуальное одиночество. Мне было жаль его и горько оттого, что отозваться я не мог. Меня поразило постепенно нараставшее бесчувствие, умственная апатия, заставлявшая ежиться от постороннего прикосновения. Раза два мы прогуливались вдоль реки и я слушал, как он, ботаник, легко и умно говорит о своем предмете. Однако мое восприятие природы Верхнего Египта, ее равнинного ландшафта, неизменного в течение года, потеряло остроту Солнце, казалось, выжгло мою тягу ко всему — пище, компаниям и даже речи. Я предпочитал лежать в постели, смотреть в потолок и слушать звуки, разносившиеся по дому, где жили учителя. Отец Годье чихал, открывал и закрывал ящики письменного стола, отец Расин вновь и вновь наигрывал одни и те же отрывки мелодий на флейте, звук органа раскатывался и мелодично таял в пространстве часовни. Крепкие сигареты успокаивали мой ум и опустошали его от всех забот.
Однажды я шел по двору школы и Годье сказал, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Я с трудом поверил своим ушам и даже не понял, о чем идет речь. Кому пришло в голову побеспокоить меня после такого перерыва? Быть может, Нессиму?
Телефонный аппарат стоял в кабинете директора, гнетущем помещении, заполненном мощной мебелью и книгами с красивыми корешками. Трубка лежала на пресс-папье напротив кресла. В ней что-то слабо потрескивало. Директор слегка сморщился и неприязненно произнес: «Это какая-то дама из Александрии». Я подумал — Мелисса, но голос на другом конце связи напомнил мне вдруг о Клеа: «Я звоню из Греческого госпиталя. Мелисса здесь, в очень плохом состоянии. Наверное, она умирает».
Мое замешательство и удивление неудержимо превратилось в слова злости. Клеа перебила меня: «Она не разрешала мне звонить прежде. Не хотела, чтобы ты видел, как она больна и исхудала. Но теперь я решила, что должна. Ты можешь приехать побыстрей? Теперь она встретится с тобой».
Я представил себе неспешный ход ночного поезда, его бесконечные остановки в пыльных городах и деревнях, всю эту грязь и жару. Ехать придется всю ночь. Я повернулся к Годье, чтобы испросить у него разрешение отлучиться на все выходные. Он задумчиво ответил: «В особых случаях это возможно. Например, если вы собираетесь жениться или кто-то заболел». Клянусь, мысль о женитьбе на Мелиссе не приходила мне в голову, пока он не произнес эти слова.
И когда я укладывал вещи в свой дешевенький чемодан, то вспомнилось вот еще что: кольца! кольца меховщика Когена все еще лежали в моем футляре для запонок, завернутые в коричневую бумагу. Какое-то время я стоял, держа их перед глазами и задаваясь вопросом: неужели и у неодушевленных предметов, как и у людей, есть судьба? «Несчастные кольца, — думал я, — почему выходит так, что они, словно человеческие существа, все это время чутко ждали своего часа, осуществления жалкого своего предназначения — оплести пальцы брачующихся». Я опустил эти жалкие вещицы в карман.
Отдаленные события, преломленные в лучах памяти, приобретают особое — отполированное — сияние, оттого что предстают они изолированно, без предшествующих и последующих деталей, этих нитей и оболочек времени. Так актеры страдают от превращения, все глубже и глубже погружаясь в океан памяти, как перегруженные тела, при этом находя на каждом уровне глубины новую оценку, новое признание в человеческих сердцах.
Не столько мука сопровождала мои мысли о Мелиссе, сколько злость, бессильная ярость; я подозреваю, что питалась она раскаянием. Мои виды на будущее, раздутые и неопределенные, были, тем не менее, населены ее образами… И теперь все отменялось за отсутствием главного действующего лица. И только теперь я осознал, до какой степени я зависел от него. Все ее образы как бы составляли всесильный фонд доверия, мой счет в котором однажды оказался аннулирован: я превратился вдруг в банкрота.
На станции меня поджидал Балтазар в своем маленьком автомобиле. Он пожал мне руку с бурной симпатией, при этом говоря будничным голосом: «Она умерла прошлой ночью, бедная девочка. Я дал ей морфия, чтобы облегчить уход. Так-то». Он вздохнул и искоса поглядел на меня. «Жаль, что ты не склонен облегчить душу слезами. Это было бы облегчением».
«Гротескным облегчением, заметь».
«Углубить эмоциональное переживание… Очиститься…».
«Хватит, Балтазар, заткнись». «Мне кажется, ты любил ее».
«Знаю».
«Она говорила о тебе без конца. Клеа была с нею рядом всю неделю».
«Хватит!»
Никогда еще город не выглядел столь иступленным, как в это нежное утро. Легкий ветерок с гавани тронул щетину на моих щеках как поцелуй старого друга. Мареотис искрился в пальмовых кронах, в прогалинах между грязными хижинами и фабриками. Магазины на улице Фуад, похоже, приобрели парижский лоск и изобилие. Я понял, что совсем опровинциалился в своем Верхнем Египте; Александрия казалась столичным городом. В ухоженных парках няньки катили коляски, а дети погоняли обручи. Трамваи, не успевая разъезжаться, рассыпали звон и треск. «Да, есть кое-что еще, — проговорил Балтазар, когда машина двинулась дальше. — Ребенок. Ребенок Мелиссы и Нессима. Хотя, вероятно, тебе известно о нем. Девочка. Она на летней вилле».
Похоже, я не понял до конца слов Балтазара, — так пьянила меня красота города, который я почти забыл. Возле муниципалитета профессиональные писцы восседали на своих стульях со своими чернильницами, перьевыми ручками и стопками бумаги. Они почесывались и премило трепались. Машина взобралась на вершину пологого склона, где стоял госпиталь. Балтазар все говорил и говорил, пока мы поднимались в лифте и потом шагали долгими белыми коридорами второго этажа.