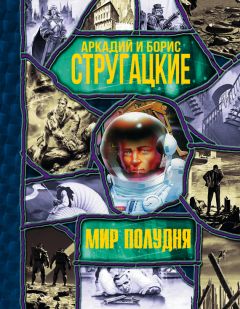Походило на то, что его хорошо здесь знали, — вероятно, как завсегдатая. Смеясь, он раскрыл объятия навстречу девушкам и обернулся ко мне, ища одобрения. Затем стал сладострастно прижимать их руки к грудному карману своего пиджака — чтобы девушки могли оценить толщину его бумажника. Этот жест тут же напомнил мне один случай, когда как-то ночью на темной улице ко мне подошла беременная женщина и, боясь, что я ускользну, поймала мою руку, и — словно подавая мне идею удовольствия (или подчеркивая собственное желание такового) — она прижала мою ладонь к своему раздутому животу. Теперь же, наблюдая Нессима, я вдруг вспомнил трепетное сердцебиение плода на восьмом месяце.
Весьма затруднительно передать то странное чувство, с которым я сидел возле вульгарного двойника Нессима. Я пристально вглядывался в него, но он избегал моего взгляда, а в разговоре ограничивался вымученными банальностями, перемежая их зевками, которые перехватывались пальцами в кольцах. Однако время от времени под новой личиной мелькали черточки былой, но захороненной неуверенности, словно прекрасное телосложение обнаруживало себя под горой жира. В умывальной комнате Золтан, официант, доверительно сообщил мне: «С тех пор как сбежала его жена, он стал самим собой. Вся Александрия говорит это». Истина заключалась в том, что Нессим стал как вся остальная Александрия.
Позже, тем же вечером, подчиняясь неожиданной прихоти, я попросил его отвезти меня на набережную. Мы долго сидели в машине в полном молчании, покуривая и глядя на освещенные луною волны, одолевавшие песчаный вал. Именно тогда, во время нашего молчания, я понял правду о Нессиме. Я понял, что внутри он остался прежним. Он просто приспособил к себе новую маску.
В начале лета я получил длинное письмо от Клеа, которым и можно, пожалуй, закрыть памятную тему Александрии.
«Тебе, может быть, будет интересно узнать кое-что о моей короткой встрече с Жюстиной несколько недель назад. Мы, как ты знаешь, изредка писали друг другу, и поэтому когда она узнала, что я еду в Сирию через Палестину, то сама предложила встретиться. Она сообщила, что приедет на пограничную станцию; поезд там стоит с полчаса. Поселение, где она работает, расположено поблизости; кто-нибудь подвез бы ее и мы бы поговорили немного, прямо на платформе. Это меня устраивало.
Во-первых, я с трудом узнала ее. Она заметно осунулась в лице; небрежно зачесанные волосы торчали на затылке, как крысиные хвосты. Уверена, что большую часть времени она носит платок. И — ни следа прежней элегантности или шика. Ее черты как бы расширились, став классически еврейскими, нос и губа еще более сблизились. Вначале меня насторожили ее горящие глаза и резковатая учащенная манера дышать и говорить, словно ее лихорадило. Как ты можешь представить, мы обе смертельно смущались друг друга.
Мы отошли от станции и нашли местечко, чтобы присесть — на краю сухого ущелья, с уродливыми весенними цветами вокруг. Мне показалось, она заранее выбрала это место для нашего разговора: вероятно, из-за подходящей суровой простоты вида. Не знаю. Вначале она не упомянула ни о Нессиме, ни о тебе, но говорила только о своей новой жизни. По ее словам, она через «служение общине» обрела новое и полное счастье, и тот вид, с которым она утверждала это, выдавал определенную степень религиозного обращения. Не смейся. Она убеждала меня, что каторжная сладость коммунистической колонии даровала ей «новое смирение». (Смирение! Последняя ловушка для Эго, ищущего абсолютной истины. Я почувствовала острое разочарование, но ничего не сказала.) Она описывала работу в общине примитивно, без воображения, как крестьянка. Ее руки, некогда столь прекрасные, огрубели и покрылись мозолями. «Конечно, каждый волен распоряжаться своим телом как угодно», — сказала я себе не без смущения, так как я, должно быть, излучала и утверждала своим видом догмат чистоплотности, досуга, хорошей пищи и ежедневной ванны. Кстати, она отнюдь не марксистка, просто заболела мистикой труда, вероятно, насмотревшись на Панайотиса. Вряд ли ты узнал бы в этой маленькой коренастой крестьянке с жесткими лапами то трогательное и измученное существо, что мы помним.
По-моему, события сами по себе — просто род примечания к нашим чувствам — одно выводится из другого. Время влечет нас (мы самонадеянно воображаем, что наши разрозненные самости моделируют будущее), время влечет нас вперед силой тех скрытых в нас самих чувств, о которых мы менее всего осведомлены. Не слишком абстрактно для тебя? К тому же, вероятно, я выразила эту мысль не лучшим образом. Думаю, в случае с Нессимом с Жюстиной произошло исцеление от тех комплексов, порожденных ее мечтами и страхами; ее просто вывернули наизнанку, опустошили, как сумку. Из-за того, что фантазия так долго заполняла передний план ее жизни, теперь ее полностью обобрали; от прежних ее шаблонов не осталось ничего. И не только потому, что смерть Каподистрии убрала со сцены главного актера в этом театре теней, ее главного тюремщика. Сам недуг, как призрак, держал ее все время начеку, и когда он умер, его место заполнила тотальная пустота. Она своей сексуальностью, так сказать, смиряла, гасила свои претензии к жизни, может быть даже — ее смысл. Люди, столь стремящиеся к границам свободы воли, вынуждены на каком-то отрезке пути свернуть в поисках помощи, чтобы разрешить для себя проблему с абсолютом. Если бы она не была александрийкой (т. е. скептиком), это стало бы чем-то вроде религиозного подвижничества. Впрочем, смогу ли я все объяснить? Здесь дело не в поисках счастья. Целый кусок чьей-то жизни вдруг оказывается канувшим в море, как например — твой, связанный с Мелиссой. Однако (и здесь срабатывает закон воздаяния, уравновешивающий на жизненных весах добро и зло) ее собственное освобождение сняло с Нессима запреты ограничения, наложенные на его страсти. Думаю, он всегда чувствовал, что пока Жюстина с ним, он не способен ответить ни на чье-либо чувство еще. Мелисса доказала ему, что он ошибался, или, по крайней мере, ему стало так казаться, однако уход Жюстины пробудил прежнюю сердечную боль, и тогда его стало переполнять острое сожаление о всем том, что он сделал для нее. Любовники никогда не подходят друг другу по всем статьям. Не так ли? Кто-то один всегда затемняет другого и препятствует ее или его росту, — так что жертва все время томима желанием спастись бегством, освободиться для самореализации. Действительно, не в этом ли самая трагическая тема любви?
С другой стороны, если в планы Нессима и входило устранение Каподистрии (о чем поговаривали), то он выбрал самый неподходящий для себя вариант. В самом деле — было бы мудрей убить именно тебя. Вероятно, Нессим надеялся, что если избавит Жюстину от власти демона (как до него надеялся Арнаути), он тем самым освободит ее для ее же самой. (Ты говорил мне: он как-то раз выразился в этом смысле.) Однако случилось прямо противоположное. Нессим как бы даровал ей отпущение грехов… Или же невольно это сделал несчастный Каподистриа, но в результате Жюстина перестала видеть в Нессиме возлюбленного, но нечто вроде священника. Она обратилась к нему с благовонием, что и повергло его в ужас. Она никогда не вернется к нему, да и как? И как только она ушла от него, он сразу понял: навсегда. Потому что те, кто благоговеют перед нами, никогда нас не любят, по-настоящему не любят. О тебе Жюстина сказала просто, слегка пожав плечами: «Я должна была вычеркнуть его из памяти».