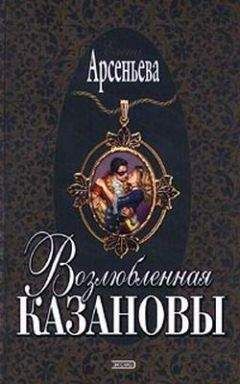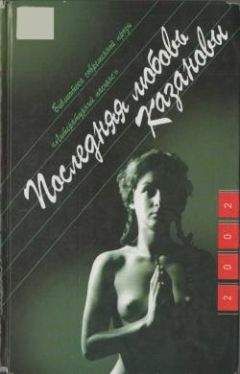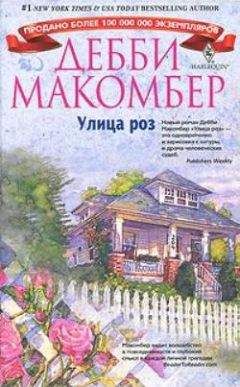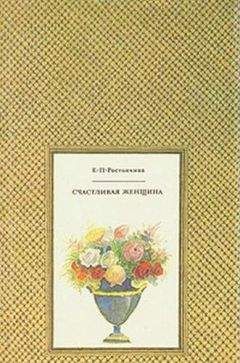Ознакомительная версия.
Девчонка заревела в голос. Пришлось ее утешать, задабривать, одаривать леденчиком, яблочком… Скоро Ульянка, столь же по-детски отходчивая, как и графиня, снова сияла улыбкою, а Елизавета думала, что в расправе, учиненной в девичьей, есть и ее доля вины. Аннета поутру расчухала, что вместо косы паклю добыла, да не осмелилась воротиться в спальню графини, всю свою злобу обратила против горничных. Вон даже верной Агафье не поздоровилось! Очевидно, на сей раз она не забыла нахлобучить парик, не то разговоров было бы куда больше. Но что же будет Анна делать с такой грудою чужих кос?..
Тут же она получила ответ на свой вопрос. Ульянка сказала, что, свершив расправу, барыня велела немедля заложить карету и везти себя в город. В людской ходили слухи, что в Нижнем есть такие лавки, где немцы за большие деньги скупают волосы русских баб, чтобы делать из них «вшиньоны» для своих лысых немок: туда, мол, лютая барыня и навострилась. Одного не могла понять пронырливая дворня: граф своей кузине ни в чем никогда не отказывал, что ж ей на косах-то зарабатывать понадобилось?!
Елизавета не сомневалась, что Анна Яковлевна и в мыслях не держала эти волосы продавать. Она, очевидно, надеялась отыскать в городе какого-нибудь ловкого парикмахера, который за малое время изладит ей один-два парика, чтобы сменить розовое облако, которое и разорваться, и полинять могло, и вообще выглядело, прямо сказать, нелепо.
Ну что ж, зато по крайней мере день-другой можно отдохнуть от растреклятой Аннеты. Если бы еще и Валерьян куда-нибудь убрался…
Тут же Елизавете стало ясно, что надежды сии призрачны. За окном послышался его голос:
– Добро пожаловать, князь, душа моя! И вам здравствуйте, Потап Спиридоныч! И вам, Александр Григорьич! И вам… Прошу скорее к столу, откушать с дороги, а там повеселимся вволю. Новая для вас забава приуготовлена, забава знатная!
Елизавета тоскливо зажмурилась.
Опять понаехали! Опять будут пить да жрать, сквернословить, орать на весь дом… Она удивлялась, как это Валерьян, скупой до одури, когда речь шла о его крепостных, умудрился прослыть у соседей радушным и хлебосольным хозяином. Что ни день – гости! Да ладно, ей-то какая забота! Наоборот, перепьются – легче будет пробраться в погреб, поглядеть, как там Елизар Ильич, жив ли еще?..
Вдруг Ульянка ахнула, схватилась за голову.
– Господи Иисусе Христе! Я и забыла совсем! Ох, прибьет, прибьет он меня! – Ее голубенькие глазки вмиг заплыли слезами, носишко-пуговица покраснел.
– Что еще? – спросила Елизавета, чуя недоброе. – О чем ты забыла?
– Барин, как прознал, что Анна Яковлевна уехала в город, то сперва сильно ругался и даже Фильку-цирюльника со злости прибил, а после поуспокоился и велел вам сказать, чтоб надели платье, какое покраше, да пришли вместо нее гостей принимать. А еще велел вам сказать, что ежели не пожелаете…
Тут бедная Ульянка умолкла – глаза вытаращила, вся покраснела и даже испариной пошла.
– Н-ну? – процедила Елизавета, предчувствуя самое худшее. – Договаривай. Что еще?
Ульянка мялась, переминаясь с ноги на ногу, все ж набралась храбрости договорить:
– Ежели вы не пожелаете прийти, то он, барин, Елизара Ильича нынче же вусмерть засечет своеручно, да и вас не помилует!
Первым побуждением Елизаветы было выкрикнуть что-нибудь вроде: «Да пропади он пропадом, людоед!», или: «Что мне его угрозы!», или: «Пусть своей любовнице приказы отдает!» – но тут же она вспомнила помертвелое лицо управляющего, свои вчерашние над ним рыдания, подступившее одиночество… Сердце зашлось от страха. Ведь Валерьян – зверь, сделает, что сулил. Сделает, точно! И она сказала, как могла спокойно, чтоб Ульянка (а значит, и вся девичья) не узнала об этой ее новой боли:
– Поди достань платье синее, шелковое, у коего рукава золотом шиты, да взгляни, не помялось ли? А коли так, скажи Агафье раздуть утюг и погладить. Поди, поди. Я сама причешусь, как всегда. – И отвернулась к окну, силясь сморгнуть слезы обиды, отчаяния и безнадежности, которые уже повисли на ресницах.
Как и следовало ожидать, обед стал для Елизаветы мучением. Она даже из страха перед мужем не могла заставить себя любезничать с этими людьми, которые, возможно, сами по себе были вовсе не плохи, но они приятельствовали со Строиловым, а потому стали отвратительны его жене. Вот она и дичилась, вот и отмалчивалась, ограничиваясь только «да» и «нет» там, где Аннета, конечно, хихикала бы, играла глазами, кокетничала, болтала, поводила голыми плечами.
И все же Елизавета чувствовала, что она нравится этим людям! Они восхищенно онемели при ее появлении, остолбенели… Еще бы! Глаза ее на фоне синего платья тоже стали глубоко-синими (очень удобно иметь серые глаза, ибо они меняют цвет в зависимости от одежды!); окрученные вокруг головы косы отливали тусклым золотом; похудевшее лицо было печальным… И даже ее замкнутость и отчужденность гости прощали, ибо это казалось им чем-то загадочным, волнующим; даже то, что она ничего не ела, только глотала ледяной квас да крошила хлеб, нравилось им, как что-то особенное, удивительное, но вполне уместное.
Елизавета всегда любила хорошо покушать, аппетита не теряла ни от каких передряг и волнений, но тут, хоть стол ломился от яств, не могла заставить себя и куска проглотить. Кругом громко жевали, чавкали, отрыгивали и ковыряли пальцами в зубах. Такого бесстыдства за столом она и вообразить не могла. Любой крестьянин ел куда пристойнее, чем эти перепившиеся господа! И даже Валерьян, который, она знала, был искушен в этикете, нынче во всем уподобился толстому, как боров, и столь же неопрятному Потапу Спиридонычу Шумилову, вокруг которого на скатерти места живого не было!
Валерьян, кстати сказать, выглядел нынче ужасно. Это поразило Елизавету и наполнило ее сердце новой тревогою. Он всегда много пил, но в последние дни – особенно: лицо его покрылось мелкими багровыми прожилками. Глаза сделались водянистыми, бесцветными и при черных, некрасиво отросших волосах казались зловеще-белесыми. Между обрюзглых, плохо выбритых щек (прибитый Филя не успел довести дело до конца) нос казался особенно маленьким, словно бы случайно попавшим на столь массивное лицо. И эти тонкие губы, и скошенный подбородок…
Елизавета старалась пореже смотреть на мужа; при каждом взгляде ее просто-таки дрожь пробирала! Он и раньше не блистал красотой, однако была в нем этакая молодая, лихая привлекательность; теперь перед нею сидел резко, внезапно постаревший человек, желчный, переполненный ядом, как скорпион, и, как скорпион, непрестанно себя же самого жалящий. Человек, положивший жизнь свою на погубление самого себя! И тут впервые кольнула Елизавету мысль, что не только она – лицо, страдающее в этом браке; Валерьян страдает тоже и, пожалуй, не в меньшей степени. Но поскольку он был из тех людей, для кого собственное страдание – разменная монета, которая жжет руки и которую надо как можно скорее пустить в обиход, Валерьян и наделял ею всех окружающих без разбора.
Ознакомительная версия.