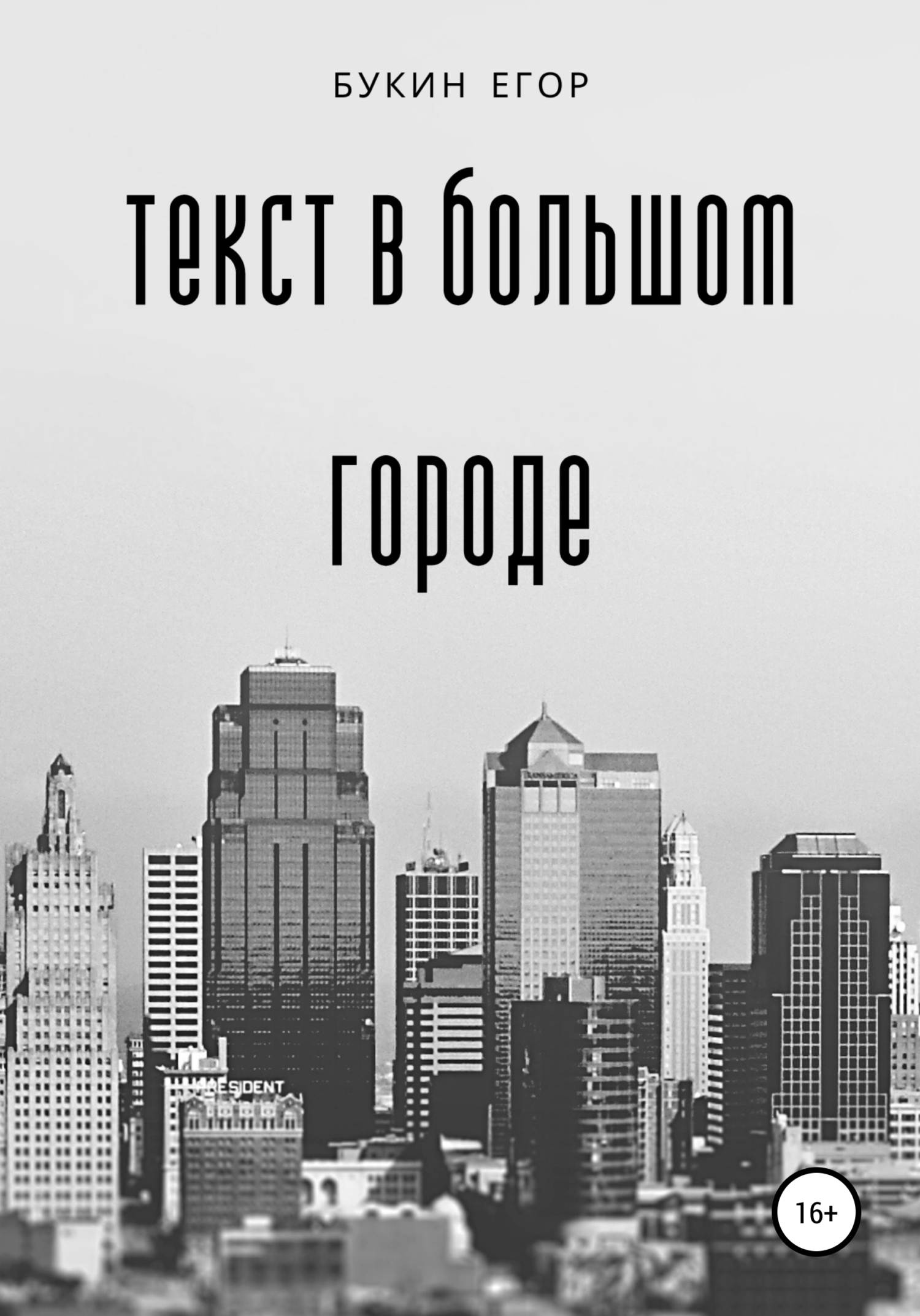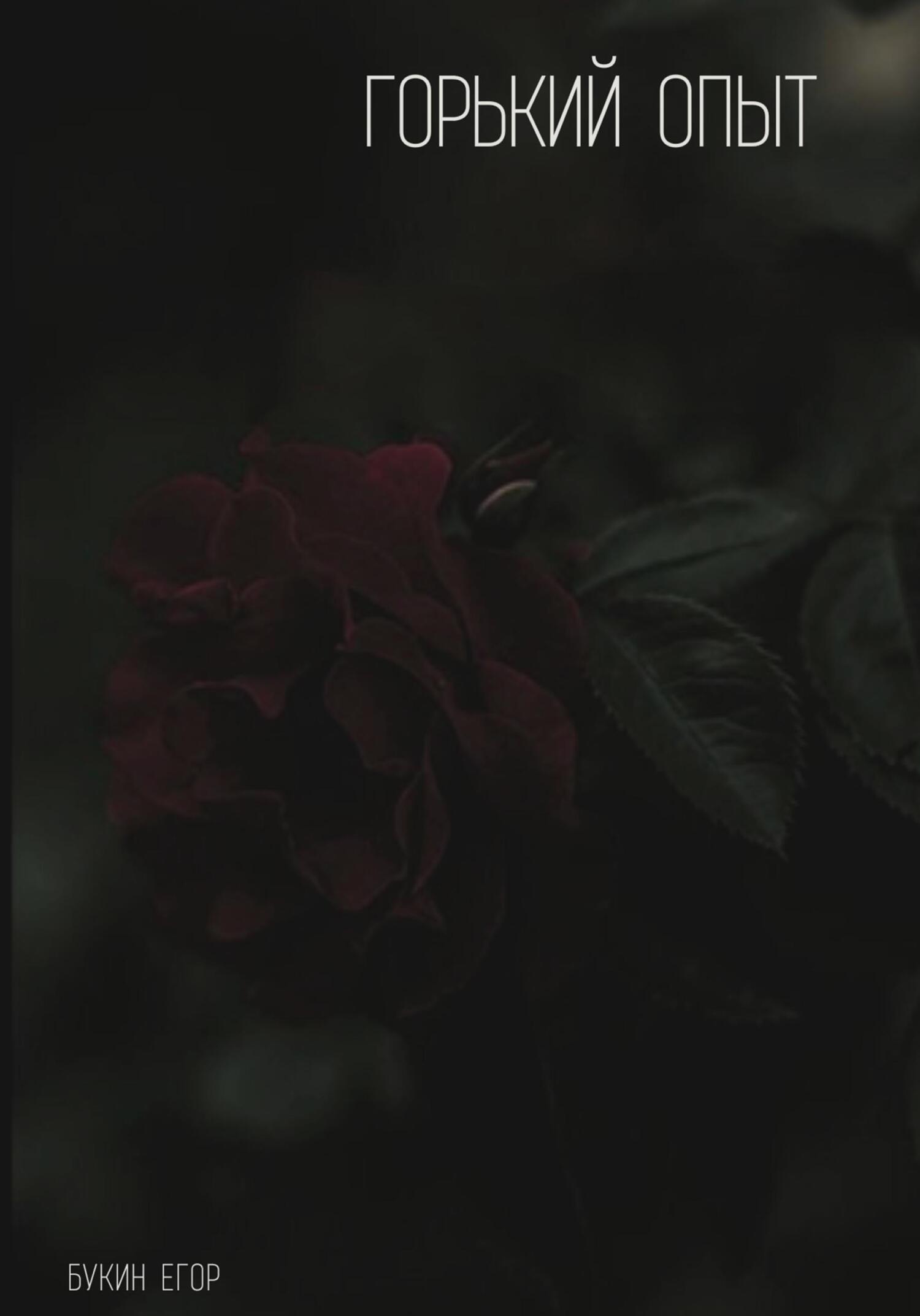До сегодняшнего дня она как бы скрывала многие факты о себе, как будто не доверяя мне.
Она говорила, что в прошлом у нее был один лишь страх, да такой, что при воспоминании сердце разрывается, однако все равно продолжала рассказывать. Явственно было видно, что она давно хотела высказаться. Постепенно завеса неуверенности пала, а слова начали рождаться сами собой. Удивительно и, наверное, странно, что из всех тем для разговора мы сошлись на истории о детстве, о том, как многие годы мы жили в угнетении. Ее история мало чем отличалась от моей, что вновь натолкнуло на мысли о том, что она – иллюзия моего больного мозга.
До семи лет она жила в глуши, где ее отец кем-то там работал, что не мешало, впрочем, матери быть страшенной алкоголичкой. В каждом ее воспоминании проходил алкоголь: пили дома, в гостях, на улице, в помещении. Вскоре отец не выдержал, и они с матерью развелись; дочь осталась с мамой – отец просто не смог ее отбить. Тем не менее он часто навещал девочку, дарил ей подарки, помогал в чем-то – это одни из немногих светлых воспоминаний. Мать же ее всячески эксплуатировала, заставляла работать, стирать, убирать, в то время как сама пьяная валялась на диване, наплевав на то, что в кухне полный кавардак с поросшей чуть ли не мхом посудой, пригоревшей сковородой и стухшей едой. Часто мать била ее.
К матери повадились всякие любовники. Однажды даже был такой случай: девочке было десять лет и один из любовников посадил ее на колени, спросив, мол, любишь ли ты играть. Она ответила положительно. Ну ухажер был, конечно же, пьян; улыбнулся. Он ее на коленях покачал, развеселил, а потом ни с того ни с сего взял и прямо в губы поцеловал. Девочка тогда просто убежала с его коленей и ошарашенно на него посмотрела. Сотни раз наблюдая за попойками матери, она сотни раз хотела свести счеты с жизнью, мечтала о том, чтобы уснуть ночью и более никогда не просыпаться. Какое же, черт возьми, знакомое чувство! Отец умер, когда ей было шестнадцать лет. Она не вдавалась в подробности, но я уверен, что она ужасно рыдала. Через время ей удалось покинуть мать и с тех пор она живет с бабушкой, не особо-то интересуясь судьбой своей родительницы. Я ее понимаю. После рассказа она вздохнула и подняла на меня глаза, в которых, как ни странно, не было ни грусти, ни отчаяния.
Признаюсь, я был поражен, удивлен и рад, встретив человека с такой же судьбой, как у меня. Но я точно видел, что эта девушка все равно совершенно другая – она не сломалась, она еще на что-то надеется, она еще веселая и жизнерадостная, в то время как я уже давно перестал на что-то надеяться на все сто процентов, ибо это невозможно с моей стороны. Она практически не пьет, не курит, не принимает успокоительное. Она другая. Потому я задался вопросом: «Как, как может она, столько страдавшая, вот так сидеть и улыбаться?» С одной стороны, я понимал и даже был уверен, что между нами не может быть ничего общего окромя детства, что мы с ней с разных планет, из разных жизней, но с другой стороны, я чувствовал такую невероятную близость с ней, что даже и описать не могу. Я настолько проникся ее рассказом, настолько мне жалко стало, что я чуть ли не плакал сидел. Но я почему-то чувствовал, что не должен сейчас ее успокаивать, ведь она и без того была спокойна. Да и чем здесь помогут слова? Это одна из тех ситуаций, когда твое выражение лица, твой взгляд говорят и помогают человеку куда больше чем тысячи успокоительных и сочувственных слов. Я не стал посвящать ее в подробности моего детства, ибо, во-первых, мне не хотелось вообще его и ее вспоминать и, во-вторых, я не любил, когда меня жалеют. Вернее, не то чтобы не любил, я просто не знал, какого это и потому никогда особо не просил этого. Я просто не знал, как на это реагировать. В детстве на меня лишь кричали, мол, зачем ты плачешь, будь мужчиной и так далее и так далее, но никогда не жалели, отчего потребность в этом, наверное, отпала.
Затем мы перешли на разговоры о литературе, как современной, так и классической, после перешли на музыку, и закончили наконец парочкой фраз о природе. Часа полтора с лишком длилась беседа, неторопливая и разнообразная. Я даже уже и не помню, когда так много говорил вживую. Вообще я так устроен, что мне проще вести эпистолярную беседу, нежели живую, да и вообще на письме я выражаюсь куда красивее, увереннее и правильнее, чем на улице, но сейчас все получалось как нельзя лучше. Удивительно!
Время уже приближалось к восьми вечера. Даше нужно было уходить, я вызвался ее проводить. Я сказал Щеголеву, чтобы он меня не ждал, и мы с ней ушли; она жила неподалеку.
На улице уже давно стемнело; несколько звезд теснились в небе. Ночная прохлада очень освежала; на душе легко. Фонари освещали наш путь. Мы шли молча, уже вдоволь наговорившись в парке. Теперь уже не возникало какой-то неловкости из-за этого; мы просто молча шли. Вдруг где-то в стороне послышался грохот, от которого она вздрогнула и машинально всем телом прижалась ко мне, схватив меня под руку. Я и сам вздрогнул от неожиданности. Мы остановились. Я только и успел промямлить что-то вроде «а…э-э…». Щеки вдруг запылали, а к горлу подступил ком, мешавший говорить слова. Лишь через несколько секунд она повернула голову от темного переулка, где раздался звук, и поняла ситуацию. Она быстро отстранилась на давешнее расстояние, тоже, кажется, покраснев. Смущенная, она выглядела еще очаровательней. А я всегда любил в женщинах скромность и некоторую застенчивость. Ничто не красит женщин так, как скромность. «Ой, извиняюсь», – тихо сказала она. Из переулка показался кот с каким-то объедком во рту и убежал прочь в сторону. Мы переглянулись и посмеялись.
Я довел ее дома. Несколько минут мы стояли у подъезда и болтали. Честно говоря, я очень не хотел уходить. Наконец мы окончательно попрощались. Я развернулся и пошел назад только когда в ее окне загорелся свет.
Лампочка обливала своим теплым светом всю кухню. Бурлила кипящая в чайнике вода. Я вдруг понял, что весь день практически ничего не ел. Как только об этом вспомнил мозг, тут же вспомнил и желудок, заурчав. Я открыл