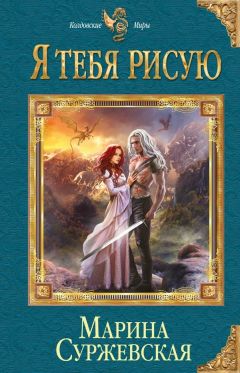Эджай... Диана смотрела на Эджая — и видела Демиана.
Как это будет? рассвет или закат? И она будет так же стоять уже у его костра. И завеса пламени навсегда скроет от неё родное застывшее лицо.
Застонав сквозь стиснутые зубы, она ударила ладонями в тугое полотно, и то спружинило, гася её ярость. Глотнув холодного воздуха и заперев его в груди, Диана на пядь сдвинула полог и вошла в шатёр.
Демиан стоял на коленях, отклонившись назад и опустив руки. Костяшки пальцев касались устлавших пол шкур, пустые ладони черны. Он стоял, запрокинув голову, точно смотрел в небо, но над ним был лишь низкий свод шатра.
Верхнюю одежду он содрал с себя ещё у входа, но ворот рубахи и низ рукавов также были грязны. Закусив губы, Диана прошла к низкому столику у стены, взяла кувшин, налила воды в таз, опустила в воду платок.
Вот так... и не расплескать... Сесть напротив. Рукава закатать — себе. Намокнут, застынут... неприятно.
Ему — рубаху долой. Обхватив за пояс... и вверх потянуть. Он подчинился, руки поднял, да и только.
Вода остыла, и Диана грела ткань в ладонях. Демиан не противился, только закрыл глаза.
Вот так. И не думать ни о чём. Не думать. Смотреть. Влажные у висков и лба волосы, острые стрелы ресниц. Мутная капля прочертила губы, другая стекла по щеке.
Вот и хорошо... хорошо. Теперь ладони. Смыть, всё смыть... Сажа, пепел, кровь. Пальцы тонкие, красивые... им бы на гитарные лады. А если отмывать, то от чернил. Но не это... не это.
Поёт колокол шатра. Ворох шкур — поверх... Вот так, и тепло. Спи, милый, засыпай. Пусть тебе... ничего не снится.
Губами — над ключицей, ловить голос сердца. А тот не говорит, тихо шепчет.
Он уснул мёртвым сном, без движения и стона. Диана не спала — стерегла. Казалось — вот закроет глаза, а он — как Финист... Ищи после на краю земли и за краем... не сыщешь.
***
Но он ускользал от неё, как туман, как дым, как сон. Уходил из мира — с каждым днём всё дальше; ещё шаг по незримой тропе за пределы. Днями всё чаще пропадал, отгораживался одиночеством. Ночами стонал и бредил, выдираясь из кошмарных видений, с кровью, как из капкана.
Трей забыл дорогу к дому, стерёг побратима. Яркие глаза выцвели, запали, взгляд их из сизоватых теней под веками казался жутким, как из полыньи.
И не больно ей было уже — так... странно. Не ходила словно, а по-над землёй летала. И внутри тянулось без начала и конца, словно песня в жатву — навязший на губах, вошедший в висок напев.
Вот и всё.
Счастья себе хотела? Было счастье. Было, да вышло всё, перегорело.
Думала, сможешь, как в сказке... Думала ведь, признайся! хватит сил удержать, хватит любви — исцелить. А не вышло, как в сказке. Не вышло.
Всё уж...
Ты одна его, как сеть, держишь... руки в кровь. Если б не было тебя, он бы во тьму канул, забылся. Так отпускай...
Отпускай.
Отпускай.
И молитв не осталось. За отца молилась, пока колени держали. А нынче... невмочь. Душа колышется прозрачным облачком. Онемел язык. Слова забылись. Только те, неотвязные, стучат в висок...
Отпускайотпускайотпускай...
Не смогла.
И встречи не искала, и будто бы смирилась. Но прозвучало властным зовом, заглушая колыбельный напев, — и смолкшее облачко встрепенулось, забилось крылато. И повело-повлекло — от наособицу стоящего шатра, за черту лагеря, по снегу чистому и белому, разделённому, как бумажный лист, единственной чертой следов.
Одна черта, но шли по ней двое. Один шагал широко, а может, бежал, проводя за чётким отпечатком сапог длинные росчерки. Другой, тот, что прежде, падал, оседал на колени, утопая в снегу ладонями, и тропа забирала то вправо, то влево, точно пьяная.
Тягучий напев оборвался, и в сознании водворилась оглушительная тишина.
Снег комьями набивался в обувь, плотной коркой налипал на чулки, студя щиколотки и икры; тяжелил шерстяную юбку. Бежать по снегу тяжелей, чем по пояс в воде. Движения увязали, как ни рвись. Шаги укороченные, стреноженные.
Единственный звук, что раздавался на сотни ярдов вокруг, было собственное её дыхание, уже непрерывное, без пауз; лёгкие горели, обожжённые морозным воздухом и бессмысленной погоней.
Всё, что могло случиться, уже случилось. Осколки здравомыслия остерегали от продолжения бега. Лучше не видеть. Пока ещё возможно, повернуть назад. Иначе это видение будет преследовать её остаток жизни.
Осколки рассыпались горстью льдинок.
Следы на снегу принимали всё более причудливые очертания. Того, кто торил путь, жестоко вело в стороны. Временами он ложился в снег, словно забавы ради хотел нарисовать ангела, но во впечатанных изломанных фигурах не было ничего ангельского. Вот складки верхней одежды застыли хищным изгибом крыла, вот скрюченные пальцы вспороли наст, и хлещущие волосы оставили похожий на языки пламени рисунок. Струйка тёмной, чёрной почти крови проточила снег до каменистой, цвета обсидиана, земли.
Склон горной долины вздымался, полого и едва зримо: белое небо смыкалось с белою землёй — единый белый мир, два берега, соединённые снежным мостом. Склон неровно засевали три каменные гряды, точно просыпанные из худого великаньего мешка.
За третьей грядой твердь вскинулась на дыбы.
Тишина рушилась с невидимого за снегом неба; плотно, как утрамбованная, стояла между базальтовыми гребнями, возвышавшимися под уклоном, словно их сбросили с высоты и те укрепились, отвесно углубившись в скальную твердь.
Густая заметь стекала на дно чаши-долины; ветер слизывал снежную кипень с базальтовых боков, как молочную пену. И шаги тех, что прошли здесь прежде, не оставили следов на обнажённой тверди. Остались иные следы, вехами на пути. Кровь из распоротых ладоней кропила тонкий покров, прочертила глянцевые мазки на тёмных камнях. Алая нить.
Ветер с вершины швырнул в Диану голоса, закружил их спутанной лентой. Она бросилась — вверх как с обрыва, точно бежала между землёй и небом, по снежному мосту.
Немой крик забился в груди, как у влетевшей в тенёта птицы. Сердце металось, ударяясь о рёберную клеть, о силок жёсткой руки, сомкнувшийся вокруг неё.
— Трей!.. — выдохнула Диана вместе с ветром.
В его лице было написано смятение.
— О Бездна!.. Как ты здесь...
Диана рванулась, выкручиваясь из его хватки в безгласном, ко всему нечувствительном отчаянии.
Окаменела.
...Демиан не дошёл до обрыва полдюжины ярдов.
Он стоял на коленях, склонившись и опираясь на ладонь. Под другой рукой лежал нож; пальцы выламывало судорогой, до самого плеча неровными волнами прокатывалась дрожь. Пересыпанные снегом волосы занавешивали лицо.
Вокруг него клубилась тьма — так среди зимней стужи клубится пар от тела вышедшего из парной. Яркая. Диана не знала, что тьма бывает такая яркая. Она как свет наоборот.
Она проницала Демиана насквозь, как свечной жар — воск. Чёрный огонь, растёкшийся по венам, и средоточием — сгусток посреди груди, вихрящийся протуберанец.
Голова Демиана мотнулась из стороны в сторону, словно его били наотмашь. Изломанная кисть ударила по оружию, и нож, отлетев, ударился о камень. Сдавленно вскрикнув, Демиан упал на локти.
— Оно не позволит мне... — Это был не его голос, неузнаваемый, трудный, точно ему смяли гортань. Демиан взметнулся с неуловимой стремительностью. Будто скованные цепями раскинутые руки. Исковерканная маска лица, бескровная и окровавленная, расчерченная проступившей изнутри чернотой. Слепые провалы глазниц. В глазах расплескалась темень. — Покончи с этим!
Трей судорожно вздохнул. Ладонь его сжалась на рукояти целящего в землю меча.
— Ты не должна быть здесь, — пробормотал он как в тумане. Лицо его было мокро от тающего снега. — Мне жаль, сестрёнка... Мне так жаль.
Диана повисла у него на руке. Ноги отнимались, и язык, она не могла говорить.
Едва ли её сопротивление хоть чего-то стоило, но Трей перевёл на неё заволоченный влагой взор. Боль, что раздирала его надвое, не позволила ему отшвырнуть Диану, как помеху, не медля.