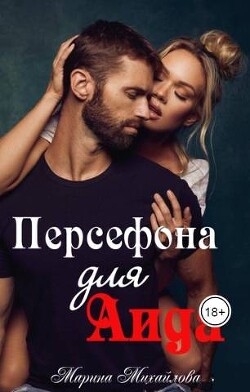всё сжалось. Рагнард среагировал мгновенно — его движение было резким и точным. Он схватил меч, и клинок блеснул в свете факелов, оставляя порез на его собственной руке. Не теряя ни секунды, он потянул меня к себе, надёжно прикрывая своим телом.
Я подчинилась его движению, забыв о слабости и оцепенении.
— Зря я тебя пожалел, надо было убить ещё тогда, — проговорил Хельмар холодным, наполненным змеиным шипением голосом. Эти слова заставили меня инстинктивно вжаться в Рагнарда ещё сильнее, чувствуя, как страх сковывает всё тело.
Внезапно его силуэт дрогнул, словно вспышка огня перед угасанием, и растворился в воздухе, оставив за собой лишь едва заметную струйку дыма, которая медленно растаяла в полумраке комнаты.
Рагнард
С самого раннего детства отец внушал мне одно-единственное, но непреложное правило: не прикасаться к людям. Никогда.
Любое непослушание каралось не просто холодным взглядом или тяжёлым молчанием. Отец был человеком строгим, безжалостным, когда дело касалось дисциплины. Его слово было законом, а наказание за малейшее нарушение — неизбежным.
Если ты ослушался — ты страдаешь. Неважно, ребёнок ты или взрослый, неважно, есть ли у тебя своя правда или нет.
Я до сих пор помню день, когда случайно разбил кубок на пиру. Мне тогда было всего пять зим — слишком мало, чтобы удержать такую хрупкую вещь в руках. Веселье мгновенно сменилось напряжённым молчанием, и я ощутил на себе тяжесть отцовского взгляда.
Он поднялся со стула, высокий и грозный, как гора.
— Хочешь стать воином, но даже кубок удержать не в силах? — его голос, полный презрения, разнёсся по залу.
Я замер. Не знал, что ответить. Отец велел выйти во двор, и я подчинился, едва сдерживая слёзы. Там он молча поднял тяжёлый деревянный щит и швырнул его мне в руки.
— Держи, ты с ним должен простоять до утра, — коротко бросил он.
Щит был огромным, почти равным мне в росте, а его вес казался непосильным. Я едва мог стоять, мои руки дрожали, но отец продолжал смотреть, будто проверяя, как долго я выдержу.
— Если уронишь, сегодня будешь ночевать на улице, — холодно произнёс он, не отводя от меня взгляда.
Щит падал снова и снова. Гости, наблюдавшие за мной из дверей зала, шептались, кто-то с усмешкой, кто-то с жалостью, но никто не осмеливался вмешаться. Каждое падение щита отзывалось не только болью в моих руках, но и жгучим унижением.
К концу ночи мои пальцы больше не могли сжиматься, а руки горели, словно в них вбивали раскалённые гвозди. Отец лишь стоял в тени, наблюдая. Его лицо не выдавало ни гнева, ни жалости — только холодное, бесстрастное ожидание.
Наконец отец махнул рукой, коротко бросив:
— Убирайся.
После этого случая я научился ловить даже нож в полёте, если кто-то случайно его ронял.
Я понимал, что отец своими суровыми методами стремился сделать из меня настоящего мужчину, воина и достойного ярла, который однажды займёт его место. Но уважение к нему всегда соседствовало со страхом — всепоглощающим, словно туман, застилающим горизонт. Он стал моим неизменным спутником с того самого дня, когда я осознал: даже самая крошечная ошибка способна превратиться в катастрофу с последствиями, которые уже невозможно исправить.
Я научился скрывать страх под маской безразличия. Каждый день внушал себе, что мне нечего бояться, и со временем даже начал в это верить. В нашем доме слабость считалась непростительным грехом. Достаточно было одного взгляда отца, чтобы напомнить: проявишь слабость — окажешься среди проигравших. А проигравших у нас не прощали.
Когда отец привёл в дом новую женщину и объявил её своей вьёрой, он нарушил собственный закон, дав понять, что его слово стоит превыше всего. Торга с самого начала относилась ко мне с теплотой. Она пыталась смягчить его суровый нрав и защитить меня, и её забота, такая неожиданная и чуждая, впервые дала мне почувствовать, что жизнь может быть иной.
Но запреты продолжали определять мою жизнь. Я не бегал по мокрой траве, не лазал на деревья, не спорил с другими мальчишками. Однако самым странным и необъяснимым для меня оставался запрет на прикосновения. В детстве я не мог понять: почему? Что такого опасного в простом касании?
Но однажды я нарушил этот запрет.
Любопытство, присущее каждому ребёнку, взяло верх. Я снял перчатки и дотронулся до своего жеребца. Его шерсть оказалась тёплой и мягкой, и в тот момент я впервые за свою жизнь почувствовал настоящее счастье.
Но это мгновение длилось недолго. Жеребец заржал, захрипел, его мощное тело содрогнулось и рухнуло на землю. Всё произошло так быстро, что я даже не успел понять, что натворил. Он лежал неподвижно, а я стоял, дрожащий, с холодным комом в горле и пустотой в сердце.
Отец ничего не сказал. Не ударил, не закричал. Только посмотрел. Но этот взгляд был хуже любого наказания. Он выжег меня изнутри, оставив на душе незаживающий шрам.
С того дня перчатки стали моей второй кожей. Щитом между мной и миром, который я не мог понять, но который боялся разрушить.
— Твоя слабость стоит жизни, — однажды сказал отец. — Не твоей — чужой. Помни это, пока дышишь.
И я помнил.
* * *
За всю мою жизнь первым, кто осмелился подружиться со мной, был Ингвар.
Это произошло в холодный, тёмный вечер, когда я таскал тяжёлые тюки сена в конюшне. Небо затянули густые облака, обещавшие скорую метель, а я, углублённый в работу, даже не сразу заметил, как он появился. Взъерошенный, с широкой, до раздражения беззаботной улыбкой.
— Ты ведь сын ярла? — спросил он, привалившись к забору.
Я кивнул, не прерывая работы. Разговаривать не хотелось.
— Тогда почему таскаешь сено? Это же работа для слуг.
— Мужчина должен трудиться, — отрезал я, не поднимая глаз.
Он фыркнул, словно я сказал что-то смешное.
— Ты всегда такой серьёзный?
— Не твоё дело.
— Да ладно тебе, — не отставал он, легко перепрыгнув через забор. — Я, кстати, Ингвар.
— Знаю.
— Откуда?
— Ты сын Агвида, друга моего отца.
— То-очно, — протянул он, скрестив руки и внимательно разглядывая меня. — А ты, значит, Рагнард.
— Поздравляю, ты не тупой.
Ингвар громко рассмеялся, не обратив внимания на мою колкость.
— А ты забавный. Странно, что мы раньше не общались, хоть и виделись часто, — заметил он, улыбаясь, но тут его взгляд задержался на моих руках. — Зачем ты их постоянно носишь?
Я застыл на мгновение — его прямой вопрос оказался неожиданным. Отведя взгляд, я привычно натянул на лицо маску безразличия.
— Так надо, — коротко бросил я, поднимая очередной