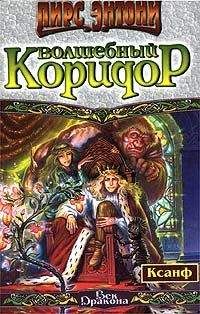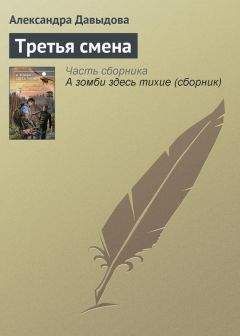Как только тело Ариадны опустилось на перину, она недовольно замычала, и я замер, страшась ее разбудить.
На столе в кабинете ее покоев, по удачному стечению обстоятельств, оказались листы и свежие чернила. Я оставил записку прямо там, не сворачивая и не пряча, чтобы буквы не растеклись, испортив столь важные слова; такой ошибки лисица бы мне не простила. Я с ужасом представлял, как она рвет это письмо на крошечные кусочки, кидает их в камин и проклинает Богиню за встречу со мной, но знал, что иначе она возненавидит меня с еще большей горечью. Всем своим огромным, полным жизни сердца.
Улицы Греи встретили меня необычным, контрастирующим с тишиной замка оживлением. Раненные воины выходили от многочисленных лекарей, укутанные в бинты и сильно пахнущие обеззараживающими мазями, и родные подхватывали их, помогая дойти до дома. Горожане все еще праздновали окончание войны, никак не задевшей их жизни, но, судя по всему, серьезно подорвавшей моральный дух, а потому сновали по дорожкам с песнями и убегающим из пинт элем. Их воодушевление оказалось заразительным, и я едва не свернул в ближайшую таверну, но застыл в дверях, завидев ее посетителей. Гвардейцы сидели за ломившимся от блюд столом в компании капитана и одного очень знакомого и дорогого мне рыжеволосого существа. Висящий на его груди кулон мелькнул в свете свечей, и я — впервые с нашего разговора о произошедшем в детстве — осознал его суть.
— За Кидо! — воскликнул Индис, вскакивая с табурета. — Да здравствует король!
Гости заведения дружно взревели, поднимаясь с мест.
— Да здравствует король!
Капитан смущенно поднял пинту, сталкивая ее с себе подобными, и ничего не произнес в ответ. Оглядывая поддержавших его подданых, его взгляд скользнул к входной двери, но я успел избежать встречи наших глаз.
Индис вписывался в эту атмосферу, как никто другой. Умеющий поддержать и вдохновить, он был идеальным вариантом для приближенного к правителю круга. Возможно, чересчур взрывным для той роли, которую прежде играл я, но совершенно незаменимый для другой, отныне куда более важной. Чистокровный эльф, занимающий законное место в совете людского королевства. Разве это не достойное продолжение дела азаани?
Аарону эта идея пришлась бы по душе.
Я поспешил уйти, пока не растерял остатки храбрости, и направился к городской стене. Начальник постовой стражи встретил меня, как старого друга, чудом вернувшегося из далекого путешествия.
— Сэр Эрланд, рад вас видеть! — гремел он, похлопывая меня по спине.
Решив не напоминать о нелюбви к обращению по фамилии — которая, к тому же, даже не была моей, — я ответил сэру Бентону тем же.
— Отправляетесь в Аррум? — поинтересовался мужчина, заглядывая мне за спину. — Вам предоставить лошадь?
— Нет нужды. Хочу пройтись пешком.
— Но ведь ночь на дворе!
— Знаете, Бентон, — вздохнул я, намеренно опустив титул, и положил руку на плечо стражника. — Порой бывает, что все наваливается, мысли в голове мечутся, как разъяренные осы, и…
— Надо подумать, понял. Что ж, хорошей дороги!
Я кивнул. Бентон, хоть и хорош в своем деле, но прост как телом, так и душой, и потому разговоры о необъятном и невидимом мгновенно его утомляли. Казалось, в его жизни ничего не поменялось; да, он стал свидетелем произошедших событий, но они ничуть не повлияли на его мировоззрение. Как и многим в этом городе, ему было все равно, кто сидел на троне. По крайней мере до тех пор, пока правитель обеспечивал его едой и кровом.
Бентон махнул рукой ребятам у ворот, и те сразу же приоткрылись ровно настолько, чтобы пропустить одного необремененного доспехами эльфа.
Признаться честно, даже если мысли и правда роились в моей голове, я не подпустил к своему сознанию ни одну из них. Тишина, пришедшая на смену бесконечным образам и словам, странным образом очищала душу. Я наблюдал за пустующим трактом, на котором когда-то погиб отец, за сгоревшей частью Аррума, и сердце сжималось от боли, но я знал: это были лишь грязные пятна на полотне цветущего мироздания. Вокруг по-прежнему существовали добрые души, живущие в людских и эльфийских телах, вкусные блюда, интересные истории. Невероятно высокие, многовековые деревья все еще скрывали Дворец Жизни от глаз чужаков, и где-то там, в глубине, шуршали его незамерзающие водопады. Жизнь лилась непрерывным потоком. Как и должна.
Раскаленный медальон впивался в кожу, будто отрастил когти, и оттого холод ночного леса ощущался особенно сильно. Я не хотел торопиться, но чувствовал в этом необходимость; казалось, еще мгновение и Богиня разгневается из-за моего вероломного неповиновения. Но я действовал строго по плану. Солнце еще не взошло.
— Насколько велика твоя сила — настолько же длинна твоя нить, — объясняла Богиня, казалось бы, терпеливо, если бы не сложенные на груди руки. Я задрал голову, чтобы разглядеть ее лицо, и шея устало заныла. — Я позволю тебе самому определить ее длину, а остатки — распределить между душами, что ты погубил.
Я растерянно заморгал и, нащупав кулон, крепко сжал его в ладони.
— В любом количестве?
— На твое усмотрение.
— Не кажется ли вам, что эта власть не идет ни в какое сравнение с той, что была у меня прежде? — напряженно спросил я. Вопрос, разумеется, не требовал ответа. — Однажды я уже решил, когда оборвать их нити, и не считаю, что волен делать это снова.
Богиня хмыкнула, как будто бы сомнения в ее методах воспитания искренне ее оскорбляли. Мне казалось, что она играет со мной: соглашусь — значит, все же считаю себя лучше прочих, откажусь — считай, противлюсь воле Богов. Для меня не существовало выигрышного хода. Загнанный в угол великой силой Природы, я мог лишь блеять, надеясь, что меня примут за барана; достаточно милого, чтобы не зарезать к ужину, но недостаточно умного, чтобы вести стадо вместо пастуха.
— Я не дарую тебе власть, — произнесла Матерь, сильно растянув последнее слово. — Я обрушиваю на тебя самое страшное наказание из возможных. Быть может, я не помню твоего имени, но самые очевидные черты твоего характера от меня не ускользнули. Я точно знаю: ты будешь мучаться из-за каждого дня, которым не сможешь наделить ту или иную жизнь. Твоя душа будет страдать из-за каждой матери, рано потерявшей сына, и ребенка, толком не запомнившего отца. Сколько времени ты даруешь раненому в сердце другу? Истекшей кровью возлюбленной? Погибшему в ее чреве дитя?
В горле мгновенно пересохло.
Богиня расхохоталась, словно звук разбивающегося вдребезги сердца ласкал ее слух, как ничто иное.
— Ох, дорогой, ты не знал? — пропела она, пропитывая слова ядом. — Впрочем, откуда! Мужчины редко замечают изменения, пока округлившийся живот не станет входить в комнату раньше женщины.
— Разве… могли ли мы…
— Не кори себя, в этом нет ничего удивительного. Его нить еще тонка. Лишь начала плестись.
— И я…
— Можешь, — подтвердила Матерь, отвечая на незаданный вопрос. — Ну так что, по рукам?
Я резко кивнул. Ее нетерпеливость несколько настораживала, но я, как бы ни искал, не видел иных путей.
— Время здесь стоит на месте, и ты можешь заниматься распределением хоть целую вечность, но как только закончишь — течение рек тут же возобновится, а солнце продолжит вставать на востоке и садиться на западе.
Перед Богиней, вынырнув из образовавшейся на мгновение дымки, возник клубок из множества разноцветных нитей. Матерь указала на него рукой. Так, будто бы мне не требовались объяснения.
— Вообще-то я прежде не занимался таким, — нахмурился я.
— Для этого не нужно особое мастерство. Возьмешься за нить, и она сама расскажет, кому принадлежит и как много лет в себе содержит. Приступай, — она хихикнула, позабавленная глупым вопросом. — Обещаю не подглядывать.
Ребячество Богини откровенно раздражало меня, но я упорно молчал, с усилием смыкая губы. Она упорхнула, будто бабочка, на другой берег пруда, и принялась увлеченно рассматривать распускающиеся на кустах цветы.