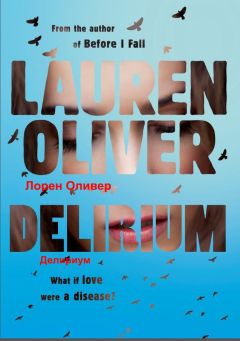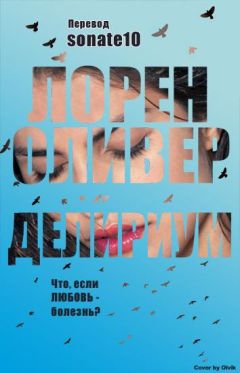Лина начинает смеяться. Я так удивлена, что почти выронила марлю из рук, поэтому я быстро завязываю узел. Затем я поднимаю свой взгляд на Лину, она смеется так сильно, что у нее появляется второй подбородок и ей сложно закрыть рот рукой, чтобы заглушить смех. Минуту Алекс тихо смотрит на нее, вероятно, он потрясен так же, как и я, но потом и он начинает хохотать. Вскоре они вместе смеются до упаду.
Затем и я начинаю смеяться. Меня поражает абсурдность ситуации: я пришла к ней с извинениями, чтобы рассказать Лине, что она была права насчет безопасности и осторожности, вместо этого я застала ее с парнем. Нет, даже хуже, с Зараженным. И после всех ее предупреждений, она та, что заразилась делирией, у нее огромный секрет: застенчивая Лина, которой никогда не нравилось стоять перед классом, нарушила все правила, которые мы учили. У Лины начинается приступ смеха. Я смеюсь до боли в животе и слез, стекающих по моим щекам. Я смеюсь до тех пор, пока я не могу понять, смеюсь ли я или начинаю плакать.
Что я буду помнить о лете, когда оно закончится?
Двойные чувства удовольствия и огорчения: угнетающая жара, холодные прибои океана, настолько холодные, что они поселяются в твоих ребрах и захватывают дух; поедание мороженного так быстро, что головная боль поднимается от зубов к глазным яблокам; бесконечные, скучные вечера с Харгроувами, набивание себя лучшей едой, чем я когда-либо ела в своей жизни; и посиделки с Линой и Алексом на Брукс-Стрит, 37, в горах, наблюдая красивые закаты, просачивающиеся в небо, зная, что мы на день ближе к нашим лечениям.
Лина и Алекс.
У меня снова есть Лина, но она изменилась, и кажется, что каждый день она становится немного более другой, немного более отдаленной, как будто я смотрю, как она спускается в темнеющий коридор. Даже когда мы одни — что теперь редко, Алекс почти всегда с нами — в ней есть неопределенность, будто она плывет по жизни в мечтах. А когда мы с Алексом — я могла бы и не быть там. Они говорят на языке шепотков, хихиканий и секретов, их слова как сказочный клубок из колючек, что создает между нами стену.
Я счастлива за нее. Правда.
И иногда, просто перед сном, когда я больше всего уязвима, я испытываю зависть.
Что еще я вспомню, если вообще вспомню хоть что-нибудь?
Первый раз, когда Фред Харгоув целует мою щеку, его губы осушают мою кожу.
Гонки с Линой до буйка на Бэк Коув, то, как она улыбалась, рассказывая об ее отношениях с Алексом, и открытие, что, когда мы возвращались с пляжа, моя содовая стала теплой, сладкой, как сироп, и совершенно не пригодной для питья.
Встречи с Анжеликой, после лечения, помощь ее маме стричь розы в их саду; то, как она улыбалась и весело махала, расфокусированные глаза, будто они наблюдали за чем-то, что воображаемо находилось над моей головой.
Я больше не вижусь со Стивом.
И слухи, постоянные слухи о Зараженных, о сопротивлении, о росте числа заболеваний, распространяющихся во мраке, окружавшем нас. Каждый день появлялось все больше и больше листовок.
Вознаграждение, вознаграждение, вознаграждение.
Вознаграждение за информацию.
Если вы видите что-то — скажите.
Весь город в листовках, весь мир: бумага шелестит на ветру, шепчет мне, донося сообщение яда и ревности.
Если что-то знаете — сделайте что-нибудь.
Прости меня, Лина.