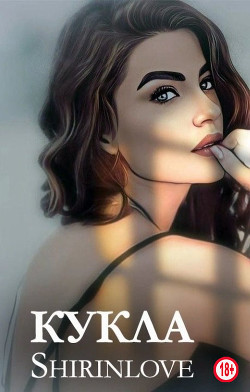хвори исцелят, любое проклятие снимут!
— Врут? — уточнила я.
— Нагло! — кивнул кот. — Во-первых, не по своей воле она поёт и болтает в звериной шкуре. А исцелить может, только будучи человеком. Проклятьем Милка к цепи золотой привязана, только и остаётся ей, что ходить кругом, направо идёт — песнь заводит, налево — сказку говорит. И не просто так, между прочим, каждому встречному концерты закатывает. Ты её белодагу, ещё заставь муркнуть что-то. Вредная стала — жуть! Вот, завтра придётся тебе выслушать, кстати. Если магия в тебе сильна, откроется тебе и кот Баюн со своими песнями и дуб Лукоморский.
— А если нет?
— Сама не поймёшь, как в Избе окажешься. Такая Милославы магия. Её и правда невозможно переслушать, голос-то, как был ангельским, так и остался. Она тебе сказок наплетёт на уши, как спагетти навешает, в этот… гипноз введёт, зашепчет так, что сама не заметишь, как дома окажешься. И всё, придётся на следующий день вновь тащится.
— В этом её и проклятье, Василисушка. Только истинный с неё шкуру снять звериную сможет, если будет человеком да переслушает все сказки семь дней кряду, не уснёт и не покинет навье да ещё и полюбит её, немую, когда девкой по свету белому бродит.
— А когда ж она бродит? — удивилась я. — В сказке писалось, что она и днём, и ночью, по цепи-то.
— Да приврал он, сказочник ваш! — фыркнул Васька, продолжая ворчать. — Откуда ему знать-то… сиднем сидел и сторожил что ль? Есть у Мирового Древа хранители свои: Ехидна, Странник и кот есть, тоже. Вот с ним и попутали. Говорю же, не я один учёный. Боги мудры, даже в своих проклятиях! — он покосился в сторону ласки, и его глаза недобро сузились. — Как же ей, мужика-то, кошкой в себя влюбить? Тьху! Срамота! Вот и есть обычно условия: какую-то часть суток зверем, какую-то человеком. Но когда ты человек, то о проклятии или не можешь сказать, если голос есть, или, вот как Милославу прокляли, вообще рыбой немой ходи. Только поступками, — сделал упор на последнем слове, — покорять.
— А Дуб этот, — нахмурилась я, не совсем понимая всё же, — что на самом деле такое?
— Ну-у, великая ось… — попытался объяснить Яким. — Это как яблоня, Вася, где каждое яблочко — отдельный мир.
— Нашёл с чем сравнить! Лукоморский Дуб с яблоней!
— Зато стало понятнее, — вступилась за ворона я. — Расскажи дальше.
— На его ветвях крепятся “светлые миры” с чистой магией, тянутся их жители к свету и души их, помыслы — чисты. Ствол древа сравнивают с земными мирами, мы как раз на стволе и находимся, это если в масштабах вселенной судить, ну а корни его отданы тёмным мирам и потустороннему. Каких только чудищ там не увидеть.
— Другими словами, у нас есть как добро, так и зло? Как свет, так и тьма?
— Все верно, — голос Якима потеплел.
— И как же мне Милославу-Баюна одолеть? — задала вопрос вслух, спохватываясь, что хотела же в душ.
— Утро вечера мудренее, Васенька, — прокаркал Яким. — Ты спать укладывайся, а мы уж покумекаем.
— Припёрся, опять?
Боже ж ты мой, ну до чего страшная кукла эта! Вроде так смотришь, ладное личико, причёска аккуратная, с косами русыми, прям ни дать ни взять человечьи, а как начинает говорить — всё отнимается к лешему. Понимаешь вроде головой-то, что не может кукла разговаривать, а у неё на тряпке рот чёрный шевелится. Хоть ты крестись, хоть через плечо облюйся.
— А что самого в зверя превратили тебе не чудно, выходит? — хмыкнув на моё “Чур меня!”, кукла деловито зашагала куда-то к окну: небось, опять подопечную свою высматривать.
— Чего ты злая такая-то? Всех собак готова спустить по мою душу.
— Да была б у тебя душа, может, и злая такая не была, — огрызнулась кукла. Вот что за игрушки у детей? Чему такая научит? Гадости честным людям с порога отвешивать?
— Много ты о моей душе знаешь! — вообще-то, в самом деле обидно. С рождения ярлыки вешают — нету места уже свободного, куда их новые клеить. То пьянчуги сын, то самоубивца дурная кровь, потом, вот, драчуна и алкаша распоследнего. Я и не пил столько никогда, сколько рассказывают! Да и дрался только разве за благое дело. Ни за что ни про что хоть бы раз на кого руку поднял!
— Сколько знаю, мне хватило. Извёл Иринку, гад такой! Заделал ребёночка и всё, дальше чужая забота, да?
— Я сказал уже тебе, что Иринка та, с кем только по сеновалам не шастала, а меня крайним решила сделать.
— А что ж не побрезговал-то? Сам тоже побежал, как поманила, — кукла забралась на насиженное место в углу подоконника и отвернулась, всматриваясь в дорогу.
Василиса ещё поутру уехала с мажором городским к Дубу. Знаю я, какие такие дубы. Сам пел похожие песни девкам. На палку чая он её зовёт, а не Мировые порядки смотреть. А дурёха эта наивная уши-то и развесила. Охает, улыбается, глаза прячет от смущения. Это ж надо такой простой быть! Даром что городская, а похуже сельчанок в иных вопросах.
— А что мне брезговать? Я парень свободный, ни перед кем не в ответе.
— Вот, теперь отвечай по гроб жизни за две сгубленные души.
И так она уверенно лепечет, как будто впрямь знает. Сначала, честно скажу, не поверил, а теперь закралась грешная мысль. Что, если правда, мой был малец? С одной стороны, откуда мне было знать, а с другой…
Ирку я не любил, конечно, но вот ребёночка жалко. Если и вправду мой, то я б не оставил вот так на улице беспризорником. Помню, как оно… Я ж уверен был, что…
Как-то гадко на душе стало от этой беседы. Вроде с куклой, как псих, разговариваешь, а всё равно пробрало.
— Не я ж ей камень на шею привязал! — в самом деле, кто её топиться просил? Ну родила бы, а там ясно было. Может и порешали бы, чей приплод…
— Что не своими руками, вины не снимает, — философски бросила кукла. Ворон тут же поддакнул, постучав клювом по столешнице. И когда успел тоже зайти в хату?
— Напридумывала всякого, — успокаивая себя, отмахнулся от обвинений куклы. — Ты ж Иринку даже в глаза не видела!
— В колыбельке её лежала! Мамкой-ведьмой сделана ещё с ранних лет, а уж потом, когда сестрица её старшая в город уезжала, так Иринка отдала с собой, мол, на удачу да сохранность. Вот и не уберегла вдали-то, — у меня от слов этих