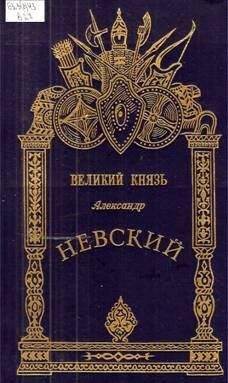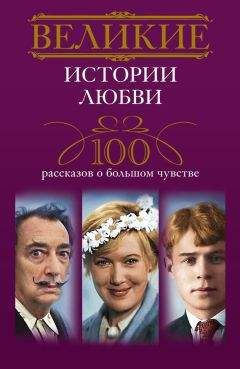запрокинулось, мягкие губы сжались в тонкую черту. — Либо я уведу тебя отсюда и сделаю так, чтобы ты об этом ни единого раза не пожалела. И своих слов я назад не приму.
— Васенька…
Гореслава расплакалась, горько и жалобно, как плачут дети. Василиса выдохнула и вернулась на место, обняла маленькую княжну и прижала к себе. Через время к девушкам сунулась было служанка, но Василиса так на нее шикнула, что той и след простыл. Еще через время слепая певица попыталась было встать, но Гореслава, судорожно вдохнув, поймала ее за рукав.
— Не уходи…
— Не ты ли давеча за любую плату просила меня убраться?.. — едко спросила Василиса. Гореслава подняла на нее заплаканные глаза, и женщина быстро поцеловала каждое веко, поправила выбившуюся из-под повойника прядку. — Ну, не плачь, ребенок… Я только чаю тебе налью, ты погляди, как ладошки нежные дрожат, даже страшно делается.
Гореслава быстро кивнула, но испуганного взгляда не опустила. Следила за каждым движением Василисы — а как решится уйти?.. Но слепая певица вернулась на место, сунула в на самом деле дрожащие пальцы чашку.
— Нацепила на себя не пойми что, — ласково приговаривала женщина, мягко стаскивая с чужой головы повойник. — И зачем он тебе?.. Волосы такие густые, такие длинные, и на шапку хватит, и на платочек, спину укрыть. Нацепила на руки кольца кандалов, ишь ты, или, может на войну собралась — наручи примеряешь?..
Гореслава не утерпела и тоненько прыснула — так лучик солнца прорывается сквозь затяжную непогоду.
— Да ну тебя… Вася, — девушка подобралась. — А ты, ну, оружием каким-нибудь владеешь? Просто страшно, наверное, одной путешествовать?
— Как тебе сказать, — обнажив руки и голову возлюбленной, задумчиво протянула слепая певица. — Владею, и оружием страшным. Тебе нечего будет бояться. Только это не металл и не дерево. Не могу описать.
— Понимаю, — Гореслава встряхнула головой, и пушистые русые пряди подпрыгнули, мягко струясь по румяным девичьим щекам. — Васенька?.. А ведь мне нужно будет чему-то научиться. Хотя бы из лука…
— Я знаю одну женщину, — мягко поведала Василиса. — Она с востока. С тридцати шагов прибивает муху к дереву, владеет кривой кыпчакской саблей. Мы могли бы задержаться у нее ненадолго. Но мне кажется, твоей руке подойдет наш меч — широкий и острый, древний, как само воинское искусство.
— Ты мне еще кистень или шестопер предложи, — влажно от слез фыркнула Гореслава. Всей теплой мягкостью женского тела она прильнула к Василисе, прижмурилась, прошептала в самую шею. — Не уходи от меня. Я глупая, ты — умная… Забери меня отсюда. Не смогу я больше в клетке. Без тебя не смогу. Без сказок твоих…
— Ну то-то же, ребенок, — ласково мурлыкнула слепая певица. И уже серьезнее, едва слышным шепотом, добавила: — Я никогда тебя не оставлю. Сказки не только сказывать нужно, надо бы иногда и творить их.
— Васенька?.. — поднимая настороженный взгляд цвета осенний дымки, позвала Гореслава.
— Чего тебе, ребенок? — забирая блюдце с кружечкой из чужих рук и наливая еще чаю — золотисто-кровавого, наваристого, — отозвалась Василиса.
— Расскажи мне сказку. Про лебедей. Только… хорошую. — Зябко вздрогнули покатые плечи, надеждой блеснуло из-под ресниц. — Расскажешь?
— Расскажу, — умильно фыркнула певица. — Тем более, в самом деле знаю одну такую сказку. Только она не про птиц. Она про девушку, которую звали Лебедь. Ее мать взял в полон монгольский хан, а она была на сносях. И родила дочь — прекрасную, как летний рассвет. Лицом ясную, волосом — золотую. Каждый шажок — будто по воде плывет, каждый жест — точно птица крылом поводит. Плечи широки, грудь высока, и платья ей с самого детства шили из белейшего шелка. Жила она у хана, точно принцесса. Целыми днями гуляла по саду, ела сладчайшие фрукты и пила одно вино, разведенное подслащенной водой. Хан ее сам не трогал и никому коснуться не давал.
Хан этот имел одиннадцать сыновей и дочь. Все они сызмальства служили у отца в войсках, водили армии на города и села. А рождены они были в один год и в один месяц от одиннадцати жен хана. Все, кроме самой старшей из них, большеглазой вражеской пленницы, принесли хану по сыну. Она родила близнецов. Эта жена ненавидела хана и подговаривала детей против него. А хан невесть с чего выбрал их своими любимцами и одаривал больше всех, возлагал надежды на сына, а дочь мечтал отдать в жены прекраснейшему и доблестнейшему из русских правителей. Но торопиться с этим не хотел.
Однажды он собрал своих детей к себе и объявил им:
— Давно омрачает мои мысли крепость Царгрера, что втиснулась между неприступных скал, будто в нору, и не дает мне и шанса проникнуть внутрь, — он пытливо оглядел двенадцать лиц, обращенных к нему. — До самых гор захватили мы цветущие земли, а из-за этой крепости дальше идти не может. Горечь меня берет, что десяток каменных башенок и пара тысяч холеных горцев останавливают нашу неустрашимую конницу.
— Ты сам не смог взять эту крепость, о правитель, — начал один из его сыновей. — Как же мы, ничтожные, исполним это?..
— Я стар, Асан! — с горечью воскликнул хан. — И силы мои давно изменили мне. Тем более, нет мечты, которая бы вела меня за собой. Смерть застигнет меня раньше, чем мы перейдем на ту сторону гор, и не мне будет пожинать плоды наших побед. Но вы…
Старый хан прищурился. Улыбка его полнилась хитростью, а взгляд блуждал от сына-близнеца к другому, от упрямой низкорослой монголки, ставшей любимой женой хана. Сердце его разрывалось между этими двумя сыновьями двух жен — ненавистнейшей и любимейшей, и не мог он выбрать, кому из них двоих отдать власть над Ордой.
— Тому из вас, кто возьмет эту крепость, я отдам в жены нашу светлую Лебедь — прекраснейшую из существующих женщин! — хан повел рукой в щедром жесте. — Слышал я, из русских женщин рождаются могущественные правительницы, как это бывало в былые времена на земле белолицых кочевников. Но в их гордости не занимать им кротости — они терпеливо стоят за спиной мужчины, не отнимая у них власть, как это делали сарматки, полощущие ноги в соленом Арале. А уж как жарки они на ласки…
Лица сыновей его осветила жадность. Но не притязанием