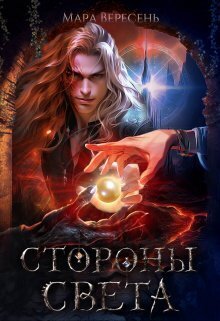и порадовался, что не размазали. Или победил, принял извинения, проявил милость к проигравшему, показательно того поунижав, и занял его место на ступеньке. И это без строгой привязки к возрасту.
Опыт, конечно, тоже значение имел, как и статус в системе. И тут становилось невероятно интересно, потому что появлялись варианты в плане задел ты темного в мундире лично, без привязки к системе, или задел его вместе с нашивками на мундире. Потому что если лично на темного еще можно тявкнуть с благоприятным результатом, то тявкать на темного в системе выходило накладно.
Плюс семья, плюс положение в обществе… Вишенкой на торте было то самое глубинное понятие «мое». Если ты задел темное «мое», закусившего удила одаренного не остановят ни сила, ни система. Только личные границы дозволенного и его же личные — только и исключительно личные — моральные установки. И, фигурально выражаясь, лопата. Желательно сильно, резко и внезапно из-за угла.
Альвине коснулся пальцем разбитой губы. Холин, зараза тёмная… Разбитое никак не затягивалось уже второй день и синяк на скуле сползать не хотел. Стыдно признаться, но т’анэ Эфар приходилось накладывать косметику и морок. Как было появиться в медцентре с побитой физией, когда до этого он с этой же физией, только целой, холинских детишек выгуливал в выставочном центре. Опять бы анекдотов насочиняли. Ему теперь нельзя. Он старейшина и глава дома. Да и перед Найниэ неудобно.
А сейчас даже хорошо, что его нет. Он себе не может объяснить отчего поддался, а пришлось бы сыну объяснять. Впрочем, что тут объяснять. Он в конце концов не железный, а она пришла ночью, вся в трещинах и смятении, будто не было этих лет, и он как дурак вновь сказал, что любит, а она так трогательно старалась его не ранить, обнимала в ответ и светом делилась, хотя самой нужно было, чтобы не рассыпаться на осколки, а внутри струной дрожало — иди сюда. Вот он и вышел следом. И если бы она не качнулась навстречу, не оттолкнула руки, не потянулась губами, не показала, как видит его и как он ей нужен прямо сейчас… Как невыносимо сладко было целовать ее, забыв обо всем и обо всех, будто не было никого, а вокруг не темный двор перед домом и покатый бок магмобиля, а пронизанный светом сад во владениях Фалмари, запах яблок и она — теплая дрожащая искра, уснувшая у него на коленях. Тогда он, глядя на нее спящую, только мечтал, чтобытакбыло, а теперь — такбыло. И он не нашел в себе сил ее оттолкнуть, подчиняясь отчаянному, запретному желанию поймал губы, так осторожно касающиеся его собственных, и присвоил не свою ласку, оставил себе чужую нежность и замирающее на вдохе не о нем сердце.
Оттолкнуть было куда более жестоко. Ведь она во тьме. Ей холодно. И ей. Очень. Нужен. Свет. Много. Света. Сейчас.
Да-а-а-а, — пропела бездна на долю мгновения раньше, чем он и не его золотая искра в коконе тьмы стали одним и ударила Голосом по струнам мира.
…деревянный настил, вереница вешек с качающимися бумажными фонарями-клетками для запертых душ шептали, разнося над топью шелестящее «ма»…
…девочка с темно-синими глазами играла на клетчатом ковре перед камином с цветными осколками из разобранного калейдоскопа, раскладывая их в разных комбинациях, будто сферы на доске. Девушка, вся из трещин и осколков, почти таких же, что были рассыпаны по полу, только разных оттенков темного: черные, серые, отблескивающие зеркальные — протягивала вперед руку, словно хвастаясь, что у нее тоже есть кое-что яркое. Два браслета, один поверх другого: золотой и тот, что врос под кожу завитками, потому что свет на двоих — это навсегда.
— Красивый, сказала девочка.
— Хочешь примерить?
— Он мне сейчас велик. Всё равно у меня потом свой такой будет. А этот оставь. Так будет легче.
— Кому?
— Всем, кому ты свой свет отдаешь. Брось, — девочка протянула гостье картонную трубку калейдоскопа, — я не дотянусь.
— Прямо в камин? Сгорит же.
— Обязательно, но от огня будет свет. Только нужно, чтобы ты са-ма…
…колокол, немой и неподвижный, полный тишины, которая вот-вот прозвучит, вспыхнул золотом, проливаясь небесным хоралом, откликаясь на это «ма»…
Мама!
Они пробили грань вместе, светом, оказываясь в доме, наверху, в спальне.
Мир плакал, натянутыми струнами, голосами детей стоящих на краю на сотнях крыш, на порогах дверей и окнах, и от каждой замершей, как сейчас Элена, фигурки тянулись ниточки паутинки, убегая за окраину. А Митика считала, боясь не успеть. Боясь, не удержать. Их всех и замерший на краю мир. Потому что Элену было кому держать, а их сейчас — некому.
Минэ, атта, нелдэ, канта, лемпэ, энквэ, осто, толто, нертэ…
Много. Сколько?
Сколы, осколки… Звенят. Так прекрасно, что ей больно слушать, а не слушать — еще больнее. Но в ней было столько света, что в тот момент она выбирала, подчиняться или подчинять. Теплый живой свет, против холодного и мертвого.
Она — сама. А он — рядом, где-то. Когда для прочих стало безопасно, он и его сверкающая звездным светом огненная тьма, позвали вместе, окончательно разбивая своей тишиной звучащее из-за грани крещендо:
Элена!
— Виен’да’риен. Так я слышу, — сказала Дара и качнулась.
Рикорд толкнул сестру внутрь, Митика бросилась их ловить, вякнул придушенный кот. А потом пришла другая тьма. И Альвине пришлось подставить щеку, вернее, челюсть. Грехопадение хоть и не случилось, но фантазия у Холина была хорошая, он сам себе все прекрасно допридумал и донапредставлял.
Нет бы по-простому стукнуть, еще и магией приложил. Не нарочно, скорее всего, а потому что был на взводе, гранью шел, да и недавний каскадный рывок добавлял огня, но это не точно. Главное, что заметить не успел, как много у них стало общего в энергетическом плане. А вот мельтешащая на краю сознания мелодия Альвине не нравилась. От слова совсем. Как и не заживающая трещинка на губе и дурацкий синяк. Зеркало отражало знакомую до мелочей физиономию и странное дело, но и трещинка, и синяк отчего-то делали лицо куда более настоящим, чем прежде, даже до всего. А хотелось, чтобы и красиво было.
В дверь позвонили, а потом и вошли. Альвине, приподнявший пальцы с дрожащей на кончиках «вуалью» морока, прислушался и остался как был. Настоящим.
— Здравствуй, лисенок. Ты давно не заглядывала.
Альвине с несказанным удовольствием любовался бывшей супругой, трогательно и значительно округлившейся в районе талии. Ее непременно тут же хотелось окружить заботой,