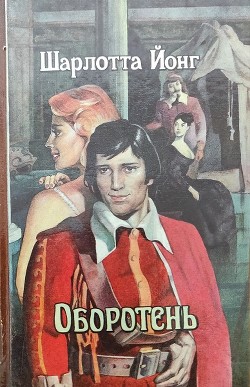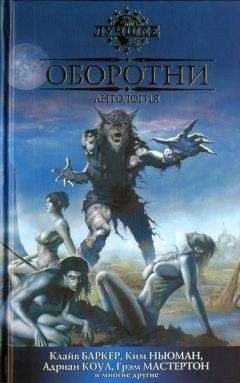– Лучше быть эльфом, бездушным существом, чем игрушкою злого духа, осужденного на погибель, – воскликнул он с горечью.
– Ш-ш, ш-ш! – ты сам не знаешь, что говоришь?
– Я знаю слишком хорошо? Бывают времена, когда я всеми силами стремлюсь к добру, – да, когда небо открывается предо мною, – и я твердо решаюсь вести добрую жизнь; но опять после того наступают моменты неудержимого влечения к тому самому, что для меня было ненавистнее всего, и я не могу уже совладать с собою. О!..
В его голосе слышалось отчаяние, и он ухватился руками за свои длинные волосы.
– Св. Павел испытал то же самое, – сказала тихо м-рис Вудфорд.
– Кто избавит меня от этой смерти? Сколько раз в своих мучениях я повторял эти слова! И если верно говорил этот монах в Турине, что я похожу на Павла, когда он еще был Савлом, – то я никогда не получил истинного крещения! – воскликнул он с живостью.
– Это невозможно, Перегрин. Разве у вас не был капелланом м-р Горнкастль, когда ты родился? Да и я слышала от брата, что они оба с отцом твоим держались того же взгляда на крещение, что и наша церковь.
– И я так думал, но отец Джеронимо говорит, что в лучшем случае это было только еретическое крещение, и потому не вполне достигло цели.
– Не обращай на это внимания, Перегрин. Это одно искушение; он только старался совратить тебя.
– Вы не знаете, как сильно было это искушение, – сказал бедный юноша. – Если бы я только мог всему поверить, что делал отец Джеронимо, и поклониться его мадоннам и святым, то я мог бы надеяться на новую жизнь и бичевать свою плоть, – и он крепко сжал при этом зубы, – пока не осталось бы следа от моего демона.
– О, Перегрин, бичеванье тут не причем; все может сделать только одна благодать свыше, и она в тебе есть, что вполне доказывают эти высшие стремления твоего сердца.
– Знайте же, что если я буду продолжать жить, как теперь, то это благодать, если она и была во мне, будет совершенно уничтожена.
С каждым новым часом моей настоящей жизни, среди ее невозможной обстановки и скуки, я чувствую, как все более овладевает мною мой безумный характер! Иногда по вечерам я выбегаю из дому и произношу ужасные проклятия, прежде чем могу заставить себя высидеть спокойно этот бесконечный ужин. Я пугаю вас, но со мною бывает и хуже того.
– Это плохой способ выявить лучшую сторону своей натуры. О, если бы ты мог вместо проклятий произносить молитвы!
– Я не в силах молиться в Оквуде. Мой отец и м-р Горнкастль вышибают из меня всякую идею молитвы, и хотя я исполняю данное вам обещание, но это только одни слова без души.
– Я рада, что ты делаешь это. Пока я знаю, что ты поступаешь так, я все-таки буду верить, что добрый ангел восторжествует.
– Разве может восторжествовать во мне что иное, кроме ненависти и отвращения, пока я нахожусь в таком рабстве? Выслушайте, и вы сами увидите, – есть ли тут какая надежда на торжество доброго духа? Мы завтракаем чуть свет остатками вчерашней полусырой говядины и баранины. Если я прошу дать мне менее сырой кусок, мне выговаривают за избалованные французские вкусы; то же самое – с кисловатым, жидким пивом. Я знаю теперь, что вредно действовало на состояние моего духа, когда я был еще ребенком, и я избегаю всего этого, и пью чистую воду, подвергаясь насмешкам за мои французские манеры, потому что вино, видите ли, считается греховною роскошью, кроме как после обеда, а взбитый шоколад – изобретением самого сатаны. Приправкою к еде мне служат выговоры, доклады фермеров и рассказы об охотничьих похождениях Боба. Потом мой отец отправляется осматривать хозяйство, тащит меня с собою, и я должен стоять по колено в грязи, наблюдая за работою пахарей с плугом, пробуя рукою вонючую шерсть каждой овцы – достаточно ли она откормлена на убой, или созерцая быков и свиней и обмениваясь замечаниями с Томасом Боксом о видах на урожай. Мне говорят, что из меня никогда не выйдет настоящий сельский джентльмен, если я буду равнодушно относиться ко всем этим предметам. Я отвечаю, что вовсе не желаю быть им, тогда меня до того преследуют сравнениями с библейским Исавом, что я не в состоянии выносить звука этого имени.
– Но разве ты обязан всегда там проводить свое время?
– О, нет! Я могу идти на охоту с Бобом, – таким же приятным товарищем, как старый осел, или отправиться на охоту с борзыми в компании с сельскими олухами, которые считают меня французом и оставляют одного. Я могу также укрыться в своей комнате, откуда меня выгоняют по два раза в неделю горничные, с их ведрами и вениками, и сидеть там закутанным в меха от холода (кстати, когда увидят, меня называют за это неженкой), занимаясь чтением, как советовал мой дядя. Но что же вышло из этого. На мое несчастье как-то раз с каким-то вопросом ко мне вошел в комнату Боб и застал меня за чтением «Божественной комедии» Данте Алигьери и как раз попал на открытую гравюру, представляющую мучения в чистилище, Он, конечно, рассказал об этом, и тотчас же поднялись вопли, что я развращаю себя книгами папистов. Напрасно я уверял их, что их удивительный Джон Мильтон, – между прочим, единственный поэт, которого, кроме Стернгольда и Гопкинса, мой отец не считает совсем язычником, – любил и уважал Данте, и даже заимствовал из него. Все мои книги немедленно подвергаются безжалостной переборке кюре и цирюльником, и все не одобренное многоученым м-ром Горнкастлем, тотчас же поступает для растопки кухонной печи. Забавнее всего, что они оставили мне классиков, как будто Лукиан и Терренций были менее язычниками, чем великий флорентинец. Однако я подкупил судомойку, и мне удалось спасти почти в целости моего Данте и Буардо, но я осмеливаюсь читать их не иначе как при закрытой на замок двери.
М-рис Вудфорд вряд ли могла высказать сильное неодобрение такого непокорства, и она ограничилась вопросом, были ли у него другие развлечения.
– Как же, фехтованье с этим неповоротливым Робертом, деревянные руки которого совсем не поддаются этому благородному искусству. Но это уже послеобеденная работа. Раньше предстоит поглотить Целую гору полусырого мяса; потом м-р Горнкастль с моим отцом начнут обсуждать то, что они называют новостями. Хорошо, если еще Тому-констеблю удалось поймать какую-нибудь жалкую тварь с хворостом – это материал на целую неделю, почти не хуже цены откормленной баранины в Портсмуте.
В свое время мой отец с священником начнут дремать над кружками с элем, а мы с Робертом отправляемся тем временем по своим делам до сумерек, пока не зазвонит колокол к вечерней молитве и толкованию Библии. Я не хочу огорчать вас, моя дорогая леди, но я должен сознаться, что они заставляют меня сожалеть о тех временах, когда я был непокорным бесенком, равнодушным к розгам и без всякого признака самоуважения.
– Я рада, что у тебя теперь есть хотя признаки самоуважения, а может быть, и уважение к чему-нибудь высшему.
– Я никогда не мог поверить, чтобы служители Неба должны быть сделаны из одной скуки. А за эти семь лет проповеди м-ра Горнкастля не изменились, – еще, пожалуй, стали положительнее.
– Я вижу, что все это для тебя, привыкшего к заграничной придворной жизни и интересующегося крупными делами, должно быть большим испытанием, мой бедный Перегрин; но что же я могу сказать, как только просить тебя быть терпеливее и постараться приобрести доверие твоего отца, чтобы он мог предоставить тебе большую свободу. Ведь кажется ты сам говорил, что благодаря твоему вниманию жизнь твоей матери сделалась счастливее.
Перегрин засмеялся.
– Моя мать? Она, во всю свою жизнь, ничего не видела, кроме оскорблений и все непохожее на это кажется ей неестественным. Я полагаю, что она в таком же страхе от моего внимания, как прежде была от моих шалостей, и я убежден, что в глубине души она все еще считает меня оборотнем. Нет, мистрис Вудфорд, есть только один путь спасти меня!
– Дядя уже просил дозволения твоего отца, чтобы взять тебя к себе.
– Знаю, знаю это. Но если это было невозможно раньше, то теперь, с открытием у меня Данте, и думать нечего об этом. Есть путь лучше этого. Отдайте мне доброго ангела, всегда охранявшего меня. Отдайте мне м-рис Анну!