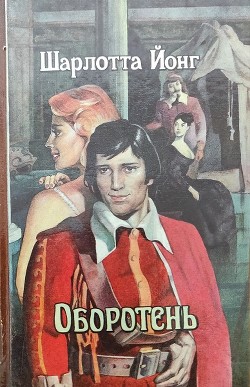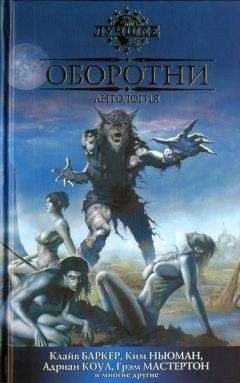– Анну, мою Анну! – воскликнула в смятении м-рис Вудфорд. – О, Перегрин, это невозможно.
– Я знал, что таково будет ваше первое слово, – сказал Перегрин, – но истинно говорю вам, я бы не решился просить вас об этом, если бы не был уверен, что с ней я стану совсем другим человеком и что ей нечего бояться того зла, которое скрывается во мне и которое исчезает при ее приближении.
– О, Перегрин! тебе кажется так теперь; но ни один человек не может отвечать за себя. Кроме того, мое дитя не подходит к вашему положению. Твой отец имел бы полное право негодовать, если бы мы воспользовались твоею привязанностью и стали поощрять такой союз, на который он никогда не согласится.
– Я скажу вам… я скажу вам все… мне грозит окончательная погибель, если отец поступит со мною по своей воле. Я знаю, чего он добивается. Он только ждет моего совершеннолетия (это будет на Иванов день и ровно год со дня смерти бедного Оливера и никто более меня не оплакивает его) и тогда он хочет женить меня на Марте Броунинг.
– Тем менее осуществимо твое намерение.
– Слушайте, выслушайте меня только. Еще когда мы были детьми, один вид постного лица Марты Броунинг, – здесь Перегрин вытянул свою собственную физиономию, ее несочувствие ко всякой забаве, ее вытянутая, как палка, фигура – все это наводило меня на самые злобные проделки. И теперь, не говоря уже о рябинах, покрывающих ее страшное лицо так, что она безобразна, как Алекто, – она самая суровая из пуританок. Могу вас уверить, что, по ее мнению, в нашем доме царит греховная распущенность! Если она может выжать из себя какой-нибудь текст священного писания и написать свое имя такими же длинными, сухопарыми буквами, как она сама, то в этом заключается все ее образование, за исключением маринованья, соленья, шитья и глаженья, – единственные искусства, которые она не признает греховными. Если уж для меня предназначается такое помело, то уж лучше бы мне сразу улететь на нем на шабаш ведьм на Брокень, чем томиться с ним всю жизнь.
– Мне не думается, чтобы она пошла за тебя.
– Тщетная надежда. Она воспитана в предположении, что один из нас предназначен ей, и она пойдет за меня без возражения, даже если б я был самим Вельзевулом с хвостом и рогами! Она уже посматривает на меня своими зелеными глазами и считает меня своею собственностью.
– Ты не должен так говорить. Если у твоего отца и существует такое намерение, то будет недостойно с нашей стороны помогать тебе в противодействии ему.
– Но он еще не высказывал его. Я только знаю об этом от моей матери и брата; и если бы я объявил ранее, что я уже сделал предложение благорожденной и образованной молодой девице, то он бы ничего не мог сказать против этого; и это спасло бы меня от невыносимого бедствия. Хотя не в одном этом заключается мое главное побуждение. Я уже любил м-рис Анну всем моим сердцем с тех пор, как присутствие ее, когда я лежал у вас больной, озарило меня точно небесным светом. Она обладает тою же силою, как и вы, укрощать сидящего во мне злого демона. С ней, как и с вами, я делаюсь другим человеком. В этом моя единственная надежда! Дайте мне эту надежду, и я в состоянии буду вынести все… О! что я наделал? я сказал лишнее?
Его долгая исповедь, даже если б она была и не такого потрясающего содержания, оказалась не по силам больной, и все мелькнувшие в ее уме мысли о предстоящих трудностях и осложнениях, а также как ответить ему сейчас, сильно подействовали на м-рис Вудфорд. Лицо ее покрылось смертною бледностью, и дыхание сделалось затруднительным, так что Перегрин в ужасе бросился разыскивать прислугу с криком, что их госпоже дурно.
Доктор в испуге вышел из своего кабинета, и весь дом, видимо, растерялся в отсутствии Анны, всегда незаменимой в таких случаях. Перегрин еще оставался здесь некоторое время, полный раскаяния и в совершенном отчаянии, предлагая съездить за нею или за врачом, и наконец остановился на последнем намерении, отчасти подвигнутый к тому старой кухаркой, его давнишним врагом.
– Не лучше? Нет, сэр… не ваша вина, конечно. Перепугали вы ее до смерти!
Не вступая в прения с старухой, Перегрин вскочил на лошадь и помчался в Портсмут; он возвратился поздно, когда м-рис Вудфорд была уже в постели и Анна находилась около нее. Ей было несколько лучше, но она чувствовала еще большую слабость, и он сознавал, что теперь было не время для возобновления утреннего разговора, если бы даже ему и не нужно было спешить домой. Поездка за доктором была довольно уважительной причиной, чтобы опоздать к вечерней молитве и поучению, но он заметил при этом недоверчивые взгляды, сильно раздражавшие его.
Возвращение Анны принесло м-рис Вудфорд более пользы, чем посещение врача, хотя первая и не подозревала, какими опасными симптомами были такие обмороки и следующий за ними упадок сил. Ночью, лежа с открытыми глазами в постели, м-рис Вудфорд заметила, что дочь ее была беспокойна и чем-то расстроена и спросила ее о причине, а также как она провела время в гостях.
– Но вы не любите, когда я говорю об этих вещах.
– Скажи мне все, что у тебя на сердце, дитя мое.
Она сразу высказала ей все, с откровенностью обыкновенно сдержанной натуры. «Молодая» в этот день была особенно капризна и своенравна, может быть, от зависти, что Люси была героинею дня, и, кроме того, мучилась простудой, не дозволявшей ей выходить из дому; можно было представить себе, до чего она доводила всех своими причудами, капризами и жалобами, так что весь день был испорчен. Люси не могла ни на одну минуту поговорить со своей подругой без того, чтобы та не прерывала ее жалобами на равнодушие и невнимательность.
Жалобы на дурное обращение леди Арчфильд, как молодая жена называла самые легкие стеснения в заботах об ее собственном здоровье, были главною темою разговоров невестки, кроме ее нарядов, болезней и подобающем с ней обхождении.
И даже молодой м-р Арчфильд, усаживая свою старинную подругу в карету, должен был сознаться ей, что он совсем потерял голову. Его мать, конечно, желала ей добра, но она не принимала в расчет ее воспитания, и его жена – что он мог сделать для нее. Она только мучила себя и всех окружающих.
Даже если бы и согласился на это его отец, она совершенно не годилась бы в хозяйки своего собственного дома; и бедному Чарльзу только оставалось проклинать ее опекунов, не имевших понятия о том, как следует воспитывать молодую женщину. Это хуже, чем плохо обученная собака.
М-рис Вудфорд, выслушав все это, была сильно огорчена, и не только за своих знакомых.
– Но, мое дорогое дитя, – сказала она, – ты не должна допускать таких откровенностей с его стороны. Они очень опасны, когда касаются женатых людей.
– Все это произошло в несколько мгновений, мама, и я не могла его остановить. Он так несчастен, – и в голосе Анны слышались слезы.
– Тем более нет причин не слушать о том, в чем он сам скоро будет раскаиваться. Если бы он не был так молод, то было бы уже совсем непростительно и неразумно с его стороны рассказывать о неприятностях и беспокойствах, с которыми часто бывают соединены первые года брачной жизни. Мне очень жаль бедного юношу, который не мыслит ничего дурного, поверяя все это подруге своих детских игр; но он не имеет права говорить так о своей жене, особенно молодой девушке, слишком неопытной, чтобы помочь ему советом. Если он повторит это в другой раз, обещай мне, что ты заставишь его замолчать, хотя бы пришлось прямо сказать ему об этом.
– Я обещаю! – сказала Анна, едва сдерживая слезы и подняв голову с подушки. – Я ни за что не поеду больше в Фиргам, пока там этот лейтенант Седли Арчфильд. Если это военные манеры, то я не могу выносить их. Он особенно низок и отвратителен, когда нападает на мастера Окшота.
– Я полагаю, многие делают то же самое, дитя мое, и он часто дает к этому повод, – добавила м-рис Вудфорд, – не особенно довольная такою горячею защитой.
– Он, во всяком случае, лучше Седли Арчфильда, – сказала девушка. – Он никогда не позволяет себе таких нахальных любезностей, как тот, когда он встретил меня одну в прихожей, и я должна была отбиваться от поцелуя; к счастью, в это время сошел с лестницы незамеченный им м-р Арчфильд-Чарли и закричал: «Я попрошу вас вести себя приличнее с леди в доме моего отца».