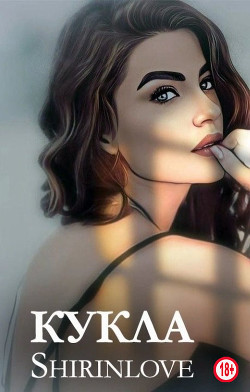всяко легче жить. Здесь соврал, там обворовал. Чего ради тянуться к свету, раз там только для избранных места? Правильно бабка говорила: выше головы не прыгнешь, кем уродился, тем и помрёшь. Как был с рождения оборванцем, Кольки колдыря сыном, так и остался вот.
Что вообще на меня нашло? Знал, же, что нельзя куклу отдавать ей. Понимал, что тварь эта тряпичная всё испортит. Гадина такая. И… всё равно вернул. А теперь вот. И вроде как положено жалеть. Глупо было вот так подставиться, упустить свой шанс и потерять тёплое, насиженное место. Нужно было соврать, как привык. Поплакала бы, да забыла. Подумаешь кукла — невелика потеря. Головой всё это я понимал хорошо, но, стоило вспомнить, как Васька прижимала к себе эту чумазую злыдню, как плакала над нею, будто родную душу вернули, и… странным, чудным образом не жалел ни о чём.
Горько, да. Мне думалось, грешным делом, что Василиса особенная. За то время, что провёл у неё под боком позволил себе обмануться, думал этого света и на мою долю хватит. До того она была доброй, что при ней как-то сам тянулся вверх. Хотелось стать лучше, да хоть бы только и в её глазах.
Перехотелось.
Сплюнул под ноги прям на начищенное крылечко, резко развернулся и зашагал прочь от Яговой избы. Ноги сами собой вынесли к деревне. А куда мне ещё? Кроме старой замшелой развалюхи, что было у меня в жизни-то? Пустота? Багаж чёрного, горького прошлого? Да проклятие это непонятное. Леший бы его побрал. Вот сейчас бы обернуться зверем тем! Ему и места много не надо, и неприметный. Знай юркнул в траву, загрыз птенца какого и уж сыт. Так ведь, как назло, не чувствую этого свербения проклятущего, что предвещало каждый раз скорый оборот. Может, оно мне и не надо человеком вовсе? Мало я среди людей нажился? Хоть бы с кем сладко жилось — всё как полынь сырую жрёшь. Давишься, аж горло сводит, а глотаешь через силу. Так и я. Вечно к людям на глаза лез как дурак. И каждый раз убеждался, что зря. А лаской… вот жил себе двадцать почти лет в звериной шкуре — себя не помнил, горя не знал. У зверя что? Вся забота — пожрать да поспать. Никто ему на свете не нужен, ни угол родной, ни чтоб ждали в этом углу. Ни слова доброго ему не надо, ни тепла человеческого. Бродит, куда ноги несут, охотой перебивается. Чем не жизнь?
Ну где ж тот проклятый оборот, когда нужен? Уже вон, полдороги прошёл от избы, а всё ногами пыль в тропинку вбиваю. Первые, ближние сюда дома уж можно глазами различить. Ночь совсем, деревня спит. Только чёрные глазницы домов насмешливо смотрят, будто напоминая обо всём, чего у меня нету и никогда не будет.
— Емеля, ты, что ли? — со стороны речки, что отделяла село от леса, различаю крупную фигуру небритого, патлатого мужика. Всматриваюсь в рожу нетрезвую, глаза стеклянные и никак не пойму, откуда знает меня по имени. — Чур меня! Пора, видать, пить бросать, твою мать. Уж упыри встречают по дороге.
Пошатываясь, бугай небрежно тюкает тремя пальцами, то в одно плечо, то в другое, осеняя себя спасительным крестным знамением.
— Ну я, — так и не угадав, с кем говорю, безразлично пожимаю плечами.
— По мою душу что ли? — мужик отшатнулся, потом прищурился, подавшись вперёд и насмешливо погрозил пальцем.
— Э не! Вот тебе фига! — скрутив пальцы, тычет в мою сторону и скалится. — А я что? Я только насоветовал. Говорю, мне твой приплод задарма не упал. Ты, пока пузо на лоб не полезло, вон к Кольке сыну иди. Этот бесхозный, как пёс бродячий, любой ласке рад будет. И чужого с закрытыми глазами примет, лишь бы не бобылём с тоски выть. Ты же ж с малых лет, как неприкаянный, с больными глазами в рожи людям заглядывал, всё искал чего-то. Ну она и пошла, не будь дура. А я что? Я вообще не при делах. Да ты сам, дурень, и виноват. Может, и правда твой пострелёнок-то был? Ещё скажи, что белёхонький и сам в тот колодец ни разу не нырнул! Эээ! — довольный, он зашёлся смехом, потом закашлялся. — Тоже позарился. Я-то знаю. Красивая, стерва, была, как тут не купиться, коли сама предлагала, да? Ну, хороша ж была и в койке, и рожей. Вот и брал бы, дурак. Кому ты ещё, окромя неё такой надобен? Вон, как нужон был, аж за собой утянула в болото! Да туда тебе и дорога. Вам обоим! Думаешь, плакал кто?
Михей, значит. Вот теперь узнал. А думал, что друзьями были. Никогда я не умел в людях разбираться. Всё, как простота святая, за чистую монету, а за душой вон что было. Стиснул зубы, ощущая себя ещё грязнее прежнего.
— Я думал ты мне друг, Михей, — с горечью оглядывая вконец спившегося, казавшегося совсем уж старым теперь некогда красивого парня, думал, что и сам бы вот так мог кончить, не запри меня проклятие в зверином теле.
— Да какой там! — Михей снова рассмеялся. — Ты ж безотказный был для своих. Кого мнил друзьями, последние портки готов был снять. Хату вот помог нам строить, работал бесплатно за троих, пока ноги не отнимались! Да поил задарма, как перепадало самому откуда.
Михей утёр рукавом потное лицо.
— Иди ты, Емелька, обратно в свои болота. Не забрать тебе души моей, так и знай! Не грешен я ни перед тобою, ни перед Иркой. Сами разбирайтесь. Ясно?!
— Да на кой чёрт мне душа твоя чёрная Михей. Живи. Такая жизнь собачья хуже любой смерти.
— А твоя будто лучше была. Ишь, нашёлся счастливчик, — подленько осклабился мой бывший друг, обиженный на последнюю реплику.
— Твоя правда, не лучше. Да я б, может, и издох, но с мальства слово себе дал, не наложу, как батька сам руки. Я хоть и слабак, да не такой совсем уж никчёмный, чтоб висеть с обоссанными портками на балке сарайной.
— Эка ты себе польстил! Был бы кчемный, не сгинул бы. А мне и ответить ему нечего. Много он про меня всякого знал. Я ж ему всё, как на духу. С кем было ещё делиться? И мысли ж не допустил, что не с душой он ко мне, а вот так… Покачал только молча головой, да и пошёл дальше своею дорогой, а всё равно прилетело в спину:
— Э! Пакость! Ты куда намылился-то? Уж не в деревню