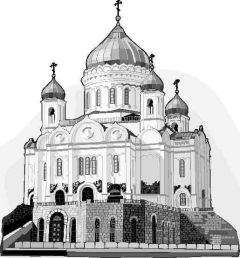Обычно, особенно у молодых людей, все бывает ровно наоборот — всяких стереотипов море, а какого-то чувства чужого тела еще нет. Здесь же — не перестающая удивлять меня будничная свобода жестов и соприкосновений, как будто бы мы с ним как минимум несколько месяцев вместе спим или с детства росли в одной комнате, как брат с сестрой. Второе сравнение, пожалуй, даже вернее, потому что все это — и объятья в метро, и питье из моей чашки, и закидывание головы мне на плечо и колено — выходит у него удивительно лишенным всякого эротического подтекста. То есть фантазировать-то, конечно, никто не запрещает, но фактически он никогда не дает мне почувствовать себя объектом своего интереса. Это и убаюкивает, и раздражает одновременно. Да, уже почти раздражает, потому что я все больше и больше привязываюсь к нему, и чувствую — еще немного и мне придется рвать когти. Потому что я не могу жить бок о бок с человеком, в которого влюблен, не имея при этом даже возможности к нему прикоснуться.
Я не могу понять, зачем ему это надо (если бы мы еще с ним спали, все было бы как-то понятнее). Главным образом меня смущает эта его таинственная неразделенная любовь. Кто она (если это, конечно, она) и почему у них ничего не получилось — в общем-то не так важно. Это вполне может быть и вымышленный персонаж, какой-то придуманный в юности образ на основе внешнего впечатления от какого-то реального человека. Все-таки Штерн хоть и редкостный красавец, на самом деле, человек он довольно странный и далеко не всякая девушка согласится с ним иметь дело (а на юношу, видимо, он сам с собой внутренне не вполне согласен). Меня больше волнует, какая роль предназначена в этой конструкции лично мне. В том, что эта роль у меня есть, я не сомневаюсь, потому что со всей очевидностью, наше со Штерном «партнерство» во всех остальных аспектах мне выгодно гораздо больше, чем ему.
Однажды вечером я полез на стеллаж за очередной книгой и случайно зацепил стоявшую рядом картонную папочку размером с тетрадь. Папка упала, из нее рассыпались листки писчей бумаги. Не успели они опасть на пол, а я уже знал, что это стихи. В правом нижнем углу, как и на картинках, всюду были проставлены даты, и я начал собирать бумажки, как они, видимо, и лежали — в хронологическом порядке. Изо всех сил стараясь не читать то, что явно предназначалось не мне. Но глаза нет-нет, да и цеплялись за какую-нибудь строку или посвящение. Я почему-то сразу подумал, что все эти вирши адресованы одному персонажу — «нежданному отражению», «чувственной тени», «моему второму Я», «доброму гению», «незнакомому другу», «невозможной возлюбленной», «жестокому ребенку» и «веснушчатому ангелу».
За несколько лет тусовок и квартирников я поневоле знал наизусть песни, с которыми выступал Стив и его группа — образцы раннего штернова творчества. И там, я почти был в этом уверен, единственным реальным персонажем был сам лирический герой. Любовь там была полностью вымышленной, и от того — в отсутствии какой бы то ни было конкретики — абсолютно идеальной. Потому эти песни так всем и нравились, что их слова можно было приложить практически к кому угодно.
Здесь же, с этих листков на меня дохнуло таким откровенным эротизмом — куда там Алексу с Яковом! Хотел бы я сам писать такие стихи. Только вот фиг их кому покажешь. Ни одна девушка не воспримет. Разве что какая-нибудь уж совсем оторва, вроде Маленькой Лизы, только кто же ей такое напишет. Нет, тут предметом страсти явно было невинное существо — страшное и искусительное в своей невинности. В том, что, несмотря на нейтральные посвящения, адресатом стихов была девушка, можно было не сомневаться: настолько часто там упоминались специфически женские части тела, пусть и в виде метафор.
Самые ранние были семилетней давности (ага, мой первый курс, подумал я — теоретически даже могли с ней встречаться, если учесть близость наших со Штерном тусовок), самые последние относились к осени прошедшего года, когда я уже начал работать в библиотеке и был визуально знаком с автором лежащих у меня на коленях поэтических эпистол. В этих последних эротики было еще больше: линии, тени, изгибы, проступающая на телах влага — и все это было написано человеком, едва удостаивающим взглядом женскую половину моего коллектива! У меня даже в глазах потемнело, когда я представил, что должно твориться в голове у мужчины, с которым мы спим на одной кровати. Последний листок — без даты — содержал странную надпись: «Штерн, влюбленный придурок, брось свои песни! Ими никого не заманишь. Настало время охоты!» Сам к себе обращается по фамилии…
— Ты чего там затих?
Он сидит в наушниках спиной ко мне. Видимо, я уже довольно давно сижу на полу без движения, раз он обратил внимание.
— Да вот, у меня тут папка твоя упала… со стихами. Листочки с пола собираю.
По спине вижу, как он напрягся.
— Положи, пожалуйста, на место, — не оглядываясь, медленно произносит он.
— Да, извини… Просто глазом зацепился. Я понимаю, что не должен был читать. Но они, правда, красивые очень, — я укладываю листочки в папку.
— Красивые, говоришь? — он срывает с себя наушники и моментально разворачивается на стуле в мою сторону, и очень странно смотрит.
— А хотел бы ты, что бы тебе такое посвятили? — помертвевшими губами говорит он.
Я сижу, пришибленный этой его вспышкой, и не понимаю, причем тут я. Ясно же, что это не мне. Мы с ним только в сентябре впервые увиделись, а подошел он ко мне со своим первым запросом где-то в первой неделе декабря.
— Не знаю, — говорю. Пытаюсь примерить на себя те эпитеты, которые я успел запомнить — Нет, наверное…
— Вот и молчи тогда, — произносит он уже более спокойным голосом и отворачивается к компьютеру.
Я все еще сижу на полу, а внутри меня — темная зияющая пустота, словно заглянул в Бездну, а она глянула на меня в ответ.
— Скажи, пожалуйста, это ведь не вымышленный персонаж? Этот человек действительно существует?
— К сожалению, да, — затаив дыхание, отвечает он.
Через какое-то время, все еще сидя на полу, я понимаю, что давно уже не слышу звука клавиш. Он сидит, опершись локтями о стол и закрыв руками лицо. Я встаю и засовываю папку туда, где она стояла. Потом просматриваю вытащенную книгу, это оказывается Фаулз, но его я сегодня читать точно не буду. Беру другую. Вдруг до моего уха доносится нервный смешок.
Я оглядываюсь, он сидит ко мне вполоборота. Глаза блестят, губы еще дрожат от беззвучного смеха.
— Такой маленький хрупкий Сенч, трогательный в своем невинном любопытстве, шарится по книжному стеллажу, просовывает мне сквозь ребра свои тонкие прозрачные пальчики и выковыривает из моей вскрытой грудной клетки кровавый клокочущий сгусток. Не все целиком, конечно, а так — сколько в ручку поместилось… Внимательно осматривает, как какую-нибудь шишку или ракушку, кровь стекает длинными липкими каплями по его изящному запястью и с характерным чпоком шлепается на пол. «Да, красиво!» — изрекает свое суждение Сенч, а потом, так и сяк повертев в пальцах мясистый комок, возвращает его на место. Он очень аккуратный, этот маленький кинестетик, если уж берет что-то потрогать, всегда возвращает туда, где взял.