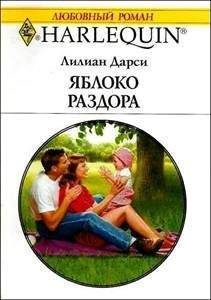горевать тебе, королевич?
– Никто не приходил ко мне и не говорил со мной. Как не усомниться в том, что я жив, в том, что я есть, если даже мой венценосный дед забывает обо мне, стоит мне его покинуть?
Пальцы скользнули по мягким, как шелк, волосам, запутались в черных прядях. Чем я могла его утешить, если знала: король день и ночь думает о наследнике – но не о самом Гвинлледе. Что ему до мальчика, до страхов и чаяний его!
Как мне укорять его, пусть даже в самом темном и тайном уголке сердца, если и сама вижу в Гвинлледе лишь порождение добрых соседей, а не его самого? Если смотрю на него, но вижу чудовище, а не ребенка?
И в тот миг не было в моем сердце иных чувств, кроме жалости, и страх отступил, как некогда – ненависть к Элеанор.
Он порождение дивных соседей, он не из рода людского, твердила я себе. Я должна бояться его, бояться – и потому ненавидеть. Но не могла.
Как когда-то жалела Элеанор, теперь я жалела его.
Я всегда жалела чудовищ.
– Разве Кейтлин тоже тебя покинула? – спросила я неловко, когда молчание затянулось и грозилось захлестнуть нас холодом и отчуждением.
Он поднял лицо, взглянул, темно и грустно, словно спросила я глупость, словно спросила я: «Разве Хозяйка Котла к тебе не приходит?», и на миг я снова усомнилась в своем рассудке.
– Она добра. Но ты… твои чувства честнее.
– Мне казалось, я слышала ее голос.
– Пока ты была в отъезде, она изредка рассказывала мне сказки. И когда она не приходила, я вспоминал их – наверное, и стены вспоминали их вместе со мной.
Дрогнул огонь в лампах, из коридора потянуло осенней стылостью, наполняющей сердца тоской, а мысли печалью. Ночь змеей вползала во дворец, и тени текли по стенам, и даже свет ламп не мог их разогнать. Наступал час для вечерних сказок, и Гвинллед, забравшись в постель, ждал, не спуская с меня темного, спокойного взгляда. Пока я скользила кончиками пальцев по корешкам книг, он спросил:
– Почему ты никогда не рассказываешь о добрых соседях?
До сих пор дивлюсь, как тогда я не вздрогнула, не выронила книгу из рук, не обернулась к королевичу со смутным страхом в глазах. Хватило мне сил ответить спокойно и ровно:
– Пока еще рано, маленький королевич. Пока еще час не настал.
Как бы хотелось мне, чтоб он и вовсе не наставал.
– Тогда расскажи мне не сказку. Расскажи, куда ты уезжала.
Он глядел серьезно, словно заметил тяжкий плащ тревог за моим плечом – так и взрослые, умудренные, не глядят, не всем хватает чуткости сердца. И я рассказала ему: и о суде над мятежником, и о наказании, что наложила на селян, и о нашем саде, и о сестрах моих, и о том, как лучи закатного солнца отражаются в алых яблоках. Он слушал, прижавшись лбом к моей руке, жадно впитывал каждое слово, не прерывая, не задавая вопросов, и я еще раз прожила эти смутные недели, еще раз проехала по осенней стране, еще раз вершила суд – но теперь хрупкая мальчишеская тень всюду следовала за мной.
Когда я охрипла и замолчала, Гвинллед поднял на меня глаза, распрямился легко и грациозно, как папоротник разворачивает листья.
– Хотел бы и я все это видеть, – сказал он. – Узнавать мою Альбрию не только по пыльным книгам и старым сказкам. Разве смогу я ею править, если из окон моих видно не дальше парка?
И уже засыпая, прошептал еле слышно:
– Хотел бы я видеть, как растут самые красные яблоки, хотел бы я их коснуться.
Я не любила зиму – сколько бы кругов ни прошло, сколько бы лет ни катилось мимо, но тьма и снег раз за разом возвращали меня в прошлое, в год смертей и отчаяния. Стоило льду сковать неторопливые воды Эфендвил, и ко мне приходили сны – муторные, изматывающие, в которых проносятся мимо матушка, Элеанор, Гленн, и я пытаюсь спасти хоть кого-то из них, но проигрываю судьбе вновь и вновь. В самых глубоких кошмарах она отбирала у меня и других: на моих глазах казнят Рэндалла, теряется в тумане Маргарет, от чахотки тает Элизабет, обращается камнем и рассыпается мой король, мой Мортимер. В такие ночи я просыпалась в поту и долго смотрела в потолок, и слезы стекали по скулам, холодно щекоча кожу.
Очередную зиму я снова встречала с тяжелым сердцем. Перед Самайном я написала письмо Элизабет, ища с нею примирения, но не смея и надеяться на него – гордости у сестры всегда было больше, чем у меня. Ответ пришел быстрее, чем можно было ждать в самых смелых мечтах. Письмо вернулось нераспечатанным, лишь на конверте твердой рукой управляющего было приписано: по срочным делам госпожа отбыла в Сандеран.
Я бы сказала, что тогда дурное предчувствие кольнуло мне грудь, но правда была в том, что в те дни не было у меня иных предчувствий, кроме дурных.
Подпитывали их и сами сандеранцы.
В начале декабря, когда Каэдмор уже готовился к Йолю и на домах развешивали елочные гирлянды и яркие тканые флажки, об аудиенции попросил лорд Вильгельм. Мортимер был уже очень слаб, и потому мне и предстояло вести переговоры. Я знала, как знаю, что зимние морозы суровы и беспощадны: эти переговоры простыми не будут.
Лорда Вильгельма приняли в Серой гостиной, украшенной скупо и лаконично. По моему распоряжению напротив стола поставили широкое зеркало, и слуги шептались и хихикали, что молодая королева одержима своей красотой и часа прожить не может, на себя не любуясь. Я едва заметно улыбалась: пусть лучше недооценивают меня. Я же должна была в любой момент аудиенции видеть лицо моего короля, чтобы знать, доволен он или нет тем, как я веду разговор, но сандеранцам этого замечать не следовало.
Ровно в три пополудни лорд Вильгельм шагнул в Серую гостиную и склонился в безупречном поклоне. Безмолвной тенью скользил за ним инженер Агли Магнуссон, тусклый и невзрачный, словно щедро присыпанный каменной пылью. На нем годы сказались тяжелее всего – если в лорде Вильгельме еще полыхал огонь фанатизма, наполняя жаром взгляд и силой тело, то помощник его казался потухшим фонарем, свечой, которая исходит последними каплями воска, прежде чем испустить последнее дыхание ниточкой дыма.
Ингимара с ними не было. Его и в Альбрии много лет не было, в этом я не сомневалась. Кем бы он