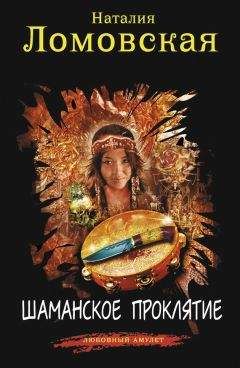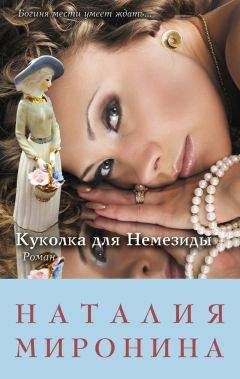Но ей было суждено узнать правду, и пришел день, когда она узнала ее. Ровно через год, в той самой галерее, где встретила она Ивана, проходила их совместная выставка. Правда, прибыли они туда поврозь. Катя приехала немного раньше и коротала время в светской беседе с хозяйкой «Серебряного павлина». Эмилия Габриэловна, статная пожилая армянка, блистала редкостной красоты жемчужными украшениями и остроумием, таким же обкатанно-гладким, как ее жемчуга. Болтая, Катерина то и дело поглядывала на лестницу, и вдруг оживленное движение, внезапно закрутившийся в человеческом море водоворот подсказали ей, что Иван уже здесь. Она хотела сделать шаг ему навстречу, но невидимая рука, быть может, жесткая рука судьбы, остановила ее. Иван был не один.
Рядом с Покровским шла высокая и худая женщина, шла, опираясь на его локоть. На ней был белый брючный костюм из какой-то необыкновенной переливчатой ткани – вероятно, выбранной, чтобы скрыть болезненную, невероятную худобу, а белый цвет должен был освежить желто-коричневый тон лица женщины. Но эффект получился противоположный ожидаемому. На глянцевом фоне заметнее был болезненный цвет кожи, а белоснежный берет, лихо заломленный на покрытый испариной лоб, производил и подавно удручающее впечатление, словно кто-то вздумал насвистывать популярный мотивчик перед разверстым гробом. При каждом шаге женщина морщилась, словно движения доставляли ей невыносимую боль, а справа от нее, держась за ее руку, важно шагал малыш лет четырех. Нет, не он держался за руку матери, это она держалась за мальчика, и, казалось, маленькая ладошка сына служит ей большей опорой, чем крепкая рука мужа.
– Как она изменилась, бедняжка! – свистнула Катерине в ухо Эмилия Габриэловна.
– Кто – она? – невнимательно переспросила Катя. Она была занята, она прислушивалась к поступи своей беды…
– Как – кто, дорогая моя? Вы что же, не знаете? Жена Покровского, мадам Покровская, так сказать. Была ведь у нас первая красавица, а два года назад у нее, представьте, обнаруживают рак. Отняли одну почку, облучили так, что бедняжка сплошь облысела, но толку все равно мало. Впрочем, говорят, Покровский отправлял ее в Германию, на курс какого-то особого, ужасно дорогого лечения, и, видно, ей там помогли. Она первый раз после операции показалась на людях… Катенька, что это с вами?
– Ничего, Эмилия Габриэловна. Здесь немного душно.
Трудно представить, но она перенесла все. Она стояла рядом с Иваном, по левую руку, а по правую пыталась выстоять его жена, и все морщилась страдальчески. Катя принимала поздравления – одни на двоих с Иваном. Она чокалась с ним бокалом игристого, радостного вина. Она ловила на себе порой недоуменные, а порой одобрительные взгляды тех, кто был в курсе ее романа с Покровским. Наконец, она видела, как Иван усаживает в автомобиль жену и сына – в тот самый автомобиль, в котором они катались по ночному городу… И она даже помахала им вслед, словно вот так, легкомысленно, слегка, навеки прощалась со своей любовью…
Назавтра Иван пришел, но Кати не было дома. Она не брала трубку, не отзывалась на его звонки, потом вообще отключила телефон. Он пришел опять, она не открыла, затаилась в спальне, кусая подушку, чтобы не разреветься в голос. Но вечно прятаться было невозможно, и в следующий раз она впустила его. Он ворочался в прихожей, большой и смущенный. А она, сложив на груди руки, смотрела на него, как та крестьянка в стихотворении Некрасова смотрела на проносящуюся мимо тройку.
– Что-то случилось, маленькая моя?
– Да, – ответила ему Катя, не сводя прощального, прощающегося, покаянного взгляда с его бесконечно родного лица. – Иван, я должна тебе сказать… Ты имеешь право знать правду. Я полюбила другого человека.
У него было такое лицо, словно она неожиданно причинила ему сильную боль, и Катя снова вспомнила «мадам Покровскую». От боли, причиняемой ее болезнью, все время страдальчески морщилась эта женщина, или эту боль доставляло ей присутствие Катерины?
Она как бы нехотя бросила еще несколько слов – о том, что у них были свободные отношения, о том, что любовь в принципе свободна, что Иван достаточно великодушен, чтобы простить ее и не желать ей зла. И добавила, неизвестно зачем, испортив этим все, всю свою жалкую ложь:
– Я выхожу за него замуж…
– Вот оно что! – почти вскрикнул Покровский, и лицо его немного посветлело. Он ведь был настоящий художник, художник во всем, и невольно озвучил беззвучный крик своих же картин. – Катя, пойми, я… Она… Врачи сказали мне…
– Остановись, – попросила Катя, и он замолчал. Никогда не слышал от этой крохи такого повелительного тона, никогда не видел такой горькой гримасы на мучительно прелестном лице! – Подумай, что ты хочешь мне сказать, и остановись. Тебе самому потом будет за это стыдно. А лучше всего, уходи прямо сейчас.
Он послушался и сказал только, обернувшись в дверях:
– Студия оплачена до октября. Катя, если ты вдруг будешь в чем-то нуждаться…
На дворе стоял май. Катя была на третьем месяце беременности.
В издательстве долго ничего не замечали, а потом заметили, да ка-ак спохватятся! Пытались для начала «уйти» Катю по-тихому, потом даже взывали к ее совести – как она может отправиться в декрет и бросить родную контору без художника, тем более зная их бедственное положение! Издательство далеко не бедствовало, а скорее прибеднялось, что и позволило Кате помахать у начальства перед носом трудовым законодательством и потребовать законных льгот. Со своей стороны, она уверяла, что не оставит работы, будет брать заказы на дом… Останетесь довольны, как говорится!
Но это потом, а пока она брала кисти словно в последний раз, словно спешила догнать на бумажном листе, как в детстве, уходящий свет. Но на этот раз свет уходил из ее жизни, а впереди поджидала готовая раскрыть свои темные объятия ночь неизвестности. Ночь без проблеска звезд, без лунной дорожки, без огонька в окне. Ведь само по себе ожидание может быть ярче свечи лишь тогда, когда есть кто-то за окном, когда есть, кого ждать… Катя все искала цвет, все подбирала верное сочетание полутонов, иногда спохватывалась, что ребенку вряд ли полезно дышать красками и растворителями, и только тогда выбиралась погулять на свежий воздух. Знакомых она почти не встречала, а если и встречала, то они не узнавали ее, так Катя подурнела. Питалась Катерина кое-как и очень похудела, что называется, спала с лица, и только живот выкатывался, как глобус. Она вспоминала, как говорила бабушка, что, дескать, если женщина носит мальчика, то хорошеет, а если девочку, то дурнеет, потому что девочка забирает у матери ее красоту. Значит, у нее будет дочка.