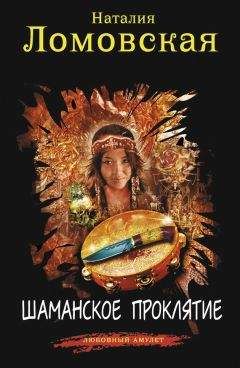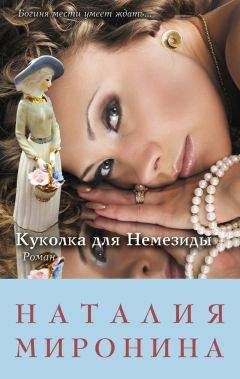Но это потом, а пока она брала кисти словно в последний раз, словно спешила догнать на бумажном листе, как в детстве, уходящий свет. Но на этот раз свет уходил из ее жизни, а впереди поджидала готовая раскрыть свои темные объятия ночь неизвестности. Ночь без проблеска звезд, без лунной дорожки, без огонька в окне. Ведь само по себе ожидание может быть ярче свечи лишь тогда, когда есть кто-то за окном, когда есть, кого ждать… Катя все искала цвет, все подбирала верное сочетание полутонов, иногда спохватывалась, что ребенку вряд ли полезно дышать красками и растворителями, и только тогда выбиралась погулять на свежий воздух. Знакомых она почти не встречала, а если и встречала, то они не узнавали ее, так Катя подурнела. Питалась Катерина кое-как и очень похудела, что называется, спала с лица, и только живот выкатывался, как глобус. Она вспоминала, как говорила бабушка, что, дескать, если женщина носит мальчика, то хорошеет, а если девочку, то дурнеет, потому что девочка забирает у матери ее красоту. Значит, у нее будет дочка.
В октябре она нашла через агентство новое жилье – комнату в коммунальной квартире. Чтобы внести плату, продала свои немногие сокровища – модную новинку – мобильный телефон и золотой браслет, подарок Ивана. Хотела продать и норковую курточку, но покупателей не нашлось, слишком маленький размер у Кати, эта куртка двенадцатилетней девочке впору, а кто таких соплюшек одевает в канадскую норку?
Жильцы перенаселенной коммуналки сначала встретили Катерину без особой радости. Нужно было видеть, как вошла она в свой новый дом – вопиюще-круглым, словно загодя горланящим животом вперед. А вместо табуреток, вместо пригодных в обиходе кастрюлек и поварешек – альбомы, краски, картины… Ей некуда было забрать мольберт и еще кое-что из крупных вещей, и хозяйка студии любезно согласилась подержать их у себя в кладовой, «пока что». В новой Катиной комнате было всего десять квадратных метров, и никакой мебели. Расплатившись с грузчиками, она села на стопку расползающихся альбомов, и зарыдала, вдохновенно и басовито, как цыганка.
Через пять минут в комнату осторожно постучали. На пороге стояла старая таджичка, мать четырех сыновей, которые затемно уходили куда-то на стройку и возвращались только поздно вечером. Спали они все вповалку на полу, и только старуха-мать занимала дощатый топчан. Она была главой семьи, все время бранила и пилила своих детей, за что – не понять, так как ругать их она предпочитала на родном языке, но каждый день варила старуха ароматный, жирный суп. И вот сейчас эта таджичка стояла на пороге Катиной комнаты.
– Мой нухат шурпа варил, – объяснила она, тыча Катерину в бок кривым черным пальцем. – Твой еда нету, ко мне кушать ходи.
Катя поблагодарила и хотела закрыть дверь, но таджичка выволокла ее в коридор и погнала в кухню, подбадривая тычками. Там она налила ей миску супа, потому что загадочная «нухат шурпа» оказалась всего-навсего гороховым супом с бараниной, но удивительно вкусным. А когда Катя вернулась в свою норку, то обнаружила там, помимо привезенного ею, еще невесть откуда взявшееся раскладное кресло-кровать, правда, порядком обшарпанное, но все еще крепкое.
– На помойку хотела выкинуть, дочке диванчик купила, – коротко заметила, сунув нос в комнату, продавщица Лиза, мать-одиночка. И отмахнулась от благодарностей: – Пользуйся, не жалко…
Но визиты на этом не кончились. Соседнюю комнату снимали две студентки, Света и Аня. Аня выглядела как фотомодель, а Света как хиппи, и Катерина сделала соответствующие выводы, и немного удивилась, когда узнала, что Света, большеротая, длинноносенькая, вся унизанная этническими безделушками, заканчивает театральный. А ухоженная, гламурная Анечка с кукольным личиком, оказывается, учится в литературном институте и широко известна (в узких кругах) как талантливая поэтесса. В общем, эти две девицы, щебеча, впорхнули в Катину келью и уверили ее, что она может брать что угодно из их посуды, пользоваться их столом и шкафчиком в общей кухне.
– Наши мамы нам прислали кучу всякой ерунды, кастрюли, чашки-ложки, – пояснила Анечка (она была из Волгограда, а Света – из Твери). – Но мы ничем не пользуемся и даже в кухню редко заходим, потому что Светка все время сидит на диетах, а я редко бываю дома…
– А ты, что ли, не сидишь на диетах? – обиделась Света. – Ты еще больше сидишь, потому что с меня на репетиции сто потов сойдет, а ты плющишь задницу на своих лекциях, семинарах и поэтических чтениях!
Спор, очевидно, был давним и привычным. Катерина уже совсем утешилась, когда в дверь снова постучали, и на пороге появился субъект распространенного в России типа, который так и называют (вроде как Всеволод Большое Гнездо, Владимир Красно Солнышко) – Алкаш Золотые Руки. Этот был могуч, печален образом, облачен почему-то в женский халат, расписанный диковинными цветами.
– Эта… Баба моя одежу попрятала, – счел он нужным принести объяснения. – Я вот тебе… На.
И подал Катерине самый настоящий электрический чайник «Тефаль».
– Его, эта, выбросили. А я нашел. Сам починил. Бери, пользуйся.
– Спасибо…
Чайник был принесен, конечно, с мусорки, но какая разница? Воду он грел исправно, насвистывал весело, и скоро в Катиной комнатушке стало поуютнее. Жизнь начинала устраиваться. Впрочем, несмотря на доброхотство окружающих, у Катерины по-прежнему было плохо с деньгами, а ведь ей предстояло где-то рожать, и хотелось бы в приличном месте, нужно было покупать всевозможные вещички для будущего младенца, да и после родов жизнь не кончится… Между тем становилось все холоднее, хозяйка-зима, накрепко сковав землю ранним морозцем, принялась вывешивать свои белые простыни, и расстилать накрахмаленное до скрипа покрывало, и хвастливо примерять белоснежную шубу, а Кате не в чем было выйти из дома. Норковая курточка не сходилась на животе. Чтобы посетить врача, она надевала чье-то ядовито-фиолетового цвета пальто, испокон веков висевшее в прихожей, широченное, но короткое. В его обширных карманах зябко ежились блеклые обертки леденцов позапрошлогодней давности, больно колола пальцы древняя окаменелость мандариновой корки, шелушилось несколько семечек. Душой карманного мира была отломанная дужка старых очков, перевязанная, как после боя, грязным бинтом. А еще, то и дело, снова и снова, сколько ни выбрасывай, там обнаруживался билет – годный неизвестно для какого вида транспорта, сбереженный неизвестно кем и для какого маршрута… Последнее время жильцы прятали в его карманах ключи от комнат, теперь же пальто носила Катя.
Она решила продать некоторые картины. Ведь она художница, верно? Значит, должна жить плодами своего труда. Отчего-то Катерина была уверена, что ее работы теперь не будут продаваться. Ведь раньше ей покровительствовал Покровский, простите за невольный каламбур… А теперь она кому нужна? Разве что навестить Эмилию Габриэловну, она всегда хорошо относилась к Кате. Попытка не пытка!