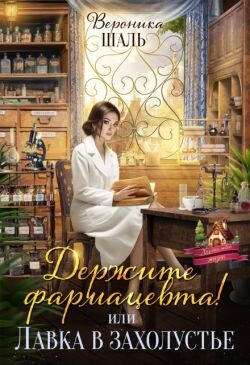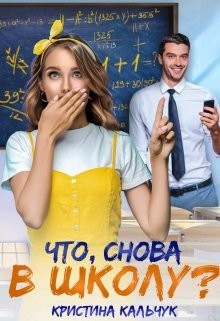— Стоп. К какому еще герцогу?
— К нашему. Ты тему не переводи. Я тебе сейчас покажу. К старосте отволоку, а он высшему друиду послание отправит.
Ее пальцы намертво вцепились в мои волосы, и тут до меня дошло, что грозится она всерьез.
— В тюрьме, шелудивая, околеешь. Друид у нас молодой, суровый, на расправу быстрый. Не забалуешь у него, как у старого.
Накручивая мои волосы на кулак, продолжая сыпать проклятиями и орудовать тряпкой, женщина двинулась в сторону лужи. Я мелкими шажками засеменила следом, пообещав себе, что при первой же возможности постригусь покороче.
Надо сказать, холодный душ был бы сейчас в самый раз. А то голова пошла кругом и мне начало казаться, что я схожу с ума. Но на мутную дождевую жижу я не подписывалась.
Я дернулась, и сразу кожа на голове полыхнула болью. Причем такой сильной, как будто с меня уже снимают скальп.
Жаль, конечно, что предыдущая хозяйка этого тела набедокурила и ее проблемы превратились в мои проблемы. Но ради возможности прожить жизнь заново я готова преодолеть все трудности! А раз мне предстоит знакомство с неведомым друидом, нечего быть покорной овечкой и надо поскорей высвободиться. Потому что пальто — единственная моя приличная вещь, в которой не стыдно предстать перед важной особой. В этом поселке я вряд ли найду кислородные отбеливатели, и коричневая грязь на сочном зеленом драпе смотреться будет весьма экстравагантно.
Подумала — и пекучая боль на голове утихла, хотя обманутая селянка с напором бульдозера продолжала двигаться к намеченной цели.
Уворачиваясь от тряпки, которая целилась мне прямо в лицо, я наклонила голову и коснулась носом ее засаленной куртки.
Одежда женщины пахла молоком.
Парным.
И немного картошкой.
Которую в печи варят.
В чугунке.
Вдруг мое тело само догадалось, что надо делать. Ноги подогнулись в коленях, и я нырнула под руку пожилой воительницы. Неожиданно легко выскользнула из цепкого захвата и, оставляя в мозолистой руке нападавшей густой пучок темных волос, отскочила на несколько метров.
На расстоянии сельчанка выглядела иначе.
Пусть ее щеки заливал нездоровый гипертонический румянец, а седые волосы выбились из-под коричневого пухового платка, стало очевидно, что женщина еще в расцвете лет.
Снять бы платок, который ей прибавляет десятка два, привести в порядок загрубевшую от солнца кожу и убрать нездоровую полноту… И никакое приворотное зелье Шурочке бы не помогло!
Она даже не попыталась догнать меня. Лишь, как будто опомнившись, замерла посреди дороги и с укоризной перехватила мой взгляд, отчего в мое сердце впились острые шипы раскаяния.
«Я ни в чем не виновата!» — прошептала я про себя.
«Как бы не так», — наотмашь резанула в ответ совесть.
Сельчанка продолжала ошарашенно озираться. Ее рот беззвучно открывался и закрывался, а руки заходились в дрожи. Я мазнула взглядом по уголкам ее губ, по-старушечьи опущенным вниз, и, не чувствуя под собой ног, попятилась во двор, из которого несколько минут назад с воодушевлением вышла «в люди».
Опомнилась я, когда под ногами заскрипели головешки, а в сжатом кулаке захрустела бумага.
Обойдя по широкой дуге черную оспину пожарища, я не спеша осмотрелась. Ни души. Подошла к раскидистой яблоне, поднырнула под свисающие до земли ветви и прислонилась к ее шероховатому стволу.
Молодые листочки с бутонами не только не пропускали яркие солнечные лучи, но и укрывали меня от любопытных глаз. Отличное место чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. А заодно посмотреть, что же за писульку швырнул в меня голосистый оборванец.
И, распутав ворсистую бечевку, развернула свиток.
На плотной пожелтевшей бумаге чернело несколько строк, выведенных кириллицей. Но явно не современной: в глаза бросились странные закорючки.
«Ять, пси и ижица?» — я скорее догадалась, чем узнала старорусские буквы в этих каракулях.
Но больше, чем несколько незнакомых символов, напрягло меня кое-что другое. Росчерк и неравномерная толщина линий вызвали опасение, что, хоть поезда уже соединяют города и веси, шариковую ручку прогресс в этом мире еще не изобрел. От мысли, что мне придется писать гусиными перьями да чернильницу с собой таскать, по шее пошел холодок.
«Хоть бы моим знаниям нашлось применение», — стряхивая растерянность, дернула я плечом и принялась читать нацарапанные нетвердой рукой и оттого тонкие, местами едва заметные строки.
«Я, Олимпий Ладиславович Гатальский, находясь в здравом уме и трезвой памяти, наказываю!
Хозяйский дом, зельевую лавку со всеми принадлежностями и хозяйственные пристройки отдать в единоличное владение внучке моей Анастасии Гатальской.
Сыну моему Игнату отписываю любимого им Рябчика.
Дочери моей Купаве я шлю проклятья за то, что ушла на свой хлеб и глаза мои ее больше не видели. И десять золотых в старейшем банке герцогства.
Условие для Анастасии. Вступить в наследство моя внучка сможет в единственном и неоспоримом случае: только когда признает право моего сына Игната жить в наследуемом доме до самой его кончины.
В противном случае все мое имущество переходит к наисветлейшему нашему достопочтенному друиду Зиновию и его ученику Элиану, которые по достоинству оценят мой щедрый дар».
Завершала документ слабая подпись и жирная печать.
Сгоревшие пристройки, запущенная изба и лавка — это и есть щедрый дар, который все эти светлые господа смогут оценить по достоинству? Я скептически поджала губы и перечитала послание.
— Значит, опять я Анастасия, — пробормотала я вслух и покатала имя на языке. — Настя, Настасья, Тася. Или Настена, как любил называть меня Жека…
Четыре буквы имени мужа словно ледяными пальцами сжали горло, отчего я принялась хватать ртом воздух. Наваждение не уходило. Оно навязчиво пульсировало черными всполохами, поднимая один и тот же вопрос. Жека, почему?
«Так было надо, Настен», — прозвучало почти как наяву, и я то ли от порыва студеного ветра, то ли от возникшего в голове некогда родного голоса вздрогнула. И как неудержимая, принялась перебирать имена. Лишь бы занять мысли, чтобы в них опять не пробрался он.
Настасья, Наста, Настуся, Туся…
Все не то. Все эти имена не про меня. А что, если…
Ася! Ну конечно, Ася! А в переводе с греческого — «возрожденная».
А сбрендивший горлопан с тазами воды, значит, Игнат. И мне его выгонять нельзя.
Не очень-то и хотелось, передернула я плечами. Я бы сама с радостью сбежала отсюда поскорее, но куда мне идти?
Лучше не поддаваться эмоциям, побольше узнать о мире и о новой себе. А потом начинать все сначала.
И денег накопить. Без них новая жизнь обречена на провал. Вряд ли здесь можно оформить пособие по безработице или, на худой конец, по попаданству.
Солнечный луч пробился через зелень листвы и подсветил еще одно имя на желтой бумаге. Рябчик. Интересно, кто это такой достался Игнату?
Понятно, что эта часть наследства не моя, но мне хотелось быть готовой к любым и особенно к неприятным сюрпризам.
Я еще немного постояла, прислонившись к прохладной коре яблони, потом скрутила свиток в трубочку и перевязала его бечевкой. Засунула поглубже в карман и, собирая волю в кулак — даже смотреть на бородача у меня не было никаких сил, — закрыла глаза.
С каких пор я стала такая пугливая? Ведь последние три года своей юности я провела в интернате для сирот. Там быстро из домашней девочки-ромашки превратилась в колючую, способную постоять за себя акацию.
Тогда почему от одной мысли, что мне придется жить в одном доме с Игнатом, скулы сводит? Он ведь мне не чужой: дядя, выходит. А Купава, значит, моя мать? Кстати, где она? Она сможет почуять подмену и догадаться, что ее дочери больше нет?
— Рябчик, Рябчик, Рябчик, — голос, нарушивший тишину, заставил открыть глаза и сосредоточиться на легком топоте и глухом хлопанье.
Через минуту победное «кукареку» пронзило пространство. И только навалившаяся в этот момент смертельная усталость спасла меня от приступа смеха.