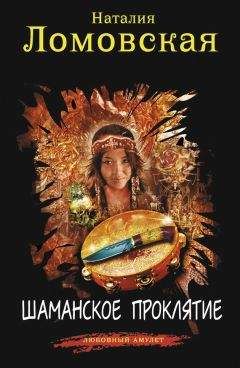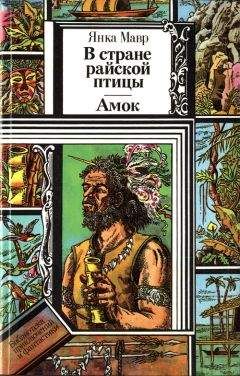– Это точно, – с удовольствием подтвердила Галина. – Жанка – ты ж видел сегодня Жанку, когда в окошко меня выслеживал? – вот она с твоей женушкой дружила. На заре юности, типа. Вот она мне порассказала про твою Анютку много интересного! Как гуляли вместе, как с кавалерами на дачке отдыхали… Жанка девка разбитная была, да и твоя благоверная не промах! Но нашлась и на старуху проруха, поехала на каникулы куда-то там и подцепила какого-то там… ик! Какого-то урода, тот ее отымел, как хотел, да и деру дал, а она приехала с каникул и прибежала к Жанке. Ой, Жанночка, ой, я не побереглася, я, кажется, беременная! А та ей: любишь кататься, люби и саночки возить! Хочешь рожать – рожай, не хочешь – иди на абортаж! Записала ее даже к своей знакомой врачихе, у которой сама это самое… ик! Сама не раз разминировалась. Да только Анютка твоя струхнула, не пришла в назначенный денек к врачику-то, Жанке сказала, вроде, ошиблась она. А сама тебя, дурака, захомутала, чтобы грехи свои девичьи прикрыть! Так-то! А ты всю жизнь рот разевал, думал, твой ребеночек недоноском родился?
– Родился, – кивнул Акатов. У него отлегло от сердца, и в груди стало легко и прохладно, как всегда бывало после приступа. – Представь себе, родился. Я и с врачом тогда говорил, и не с одним, и в камере Сережа специальной лежал, я сам видел. На пальцах у него не было ноготков, даже рот не сформировался окончательно, и он не мог сосать, не мог кричать, но уже тогда я знал, что это мой сын. По глазам. Глаза у него, как у моего отца.
Акатов долго прогревал мотор автомобиля, бессмысленно глядел в запотевшие стекла. Он старался думать о чем-нибудь спокойном, бытовом – к примеру, о том, что заморозки в этом году наступили удивительно рано, но как только ляжет снег, станет немного теплее. Но мог думать только о том, не придет ли Галина. Не решила ли догнать его, попытаться вернуть или продолжить дискуссию прямо здесь, на месте? Во рту у него был медный привкус, будто он долго сосал горсть мелочи, и Акатов не сомневался, что и этот привкус, и возобновившаяся, грозно нарастающая боль в груди есть последствия тех слов, что Галина выкрикивала ему вслед, перемежая брань пьяной икотой. Вадим бежал вниз по лестнице и молчал, а она, выйдя на лестничную клетку, драла свою мощную глотку, и некоторые двери открывались, из темных щелей поблескивали любопытные глаза, а из-за одной двери высунулось и вовсе невиданное – чудовищная башка, покрытая какими-то розовыми наростами, то ли рога это были, то ли бородавки, рожа зеленая, белки глаз вращаются, тело все покрыто бурой шерстью…
– Галка хахаля поперла, – радостно сказал монстр, обращаясь в глубь своего логова, и Акатов понял, что это вовсе не монстр никакой, а просто баба, хоть и очень толстая, на голове у нее бигуди, лицо покрывает, очевидно, косметическая маска, а тело – махровый банный халат! Но от этого открытия ему не стало легче – Вадим Борисович подумал вдруг с неожиданной головокружительной оторопью, что отныне и до скончания его века все женщины будут видеться ему именно такими.
Кроме, быть может, Анны. Кроме Анны – думал он, сидя в постепенно прогревающемся нутре автомобиля. Кроме нее – но каков в этом прок? Разве она примет его обратно? Разве смогут они снова быть вместе? Нет, скорее всего, нет. Акатову придется жить одному, ютиться по съемным углам, он все равно не сможет купить себе жилья, тем более теперь, когда его цены на рынке жилья так высоки, а его финансовые дела так плохи, да и если наступят лучшие времена, зачем ему, одному, жилье? Дома и квартиры покупают, чтобы жить в них семьями, чтобы рождались дети и внуки, а в далекой перспективе и правнуки, но ничего этого у Акатова нет. Уже нет.
Как многие обремененные семьей мужчины, Вадим Борисович раньше многое бы дал за свою свободу, но за свободу временную. Сколько раз мечтал он поехать куда-нибудь в одиночестве в отпуск – да хоть бы в родную деревню, главное, чтобы никто не дергал его, не таскал по экскурсиям, не требовал пользоваться за едой ножом и вилкой, не смеялся над его любовью к темному пиву и вобле… Теперь он мог хоть улиться этим пивом, но вот какое дело – почему-то совсем не хотелось! Да и немудрено, в такую-то холодину.
«А что, если и в самом деле поехать в деревню? – подумал он вдруг. – Бросить все и уехать в Акатовку. Как-то там мой старик? Давно его не видел. За лето так и не собрался, осенью послал ему денег на дрова. Хватит ли ему дров-то до весны? Зима ранняя в этом году. Будем сидеть вдвоем у печки, ловить окуней в проруби – интересно, пешню-то ту самую, на заказ сделанную, не утопил он еще? – варить кондер с рыбой и пшеном. Особенно в мороз хорошо… Жаль, что нельзя уехать прямо сейчас – темно, дорога скользкая, не ровен час разобьюсь».
И Акатов прогрел как следует мотор и поехал. Он твердо решил ночевать в гостинице, а утром уехать хотя бы на время в деревню. Но ему хотелось напоследок хотя бы посмотреть на окна своего дома, как давеча, чтобы впитать в себя теплый свет и чуть-чуть надежды. Он подъехал к подъезду, остановил машину, вышел на улицу – и сам не понял, как ноги сами понесли по знакомым ступеням, истершимся от его шагов. Прикоснулся к кнопке звонка и отдернул руку, словно обжегшись. Прозвучало далекое таинственное «динг-донг», и тут же послышались легкие шаги. Это Анна бежала открывать дверь.
– Кто бы это мог быть? – услышал Вадим.
И по этим словам, по интонациям милого голоса Анны Акатов вдруг понял, что жена думала о нем и, быть может, сию секунду, воображала, что он позвонит в дверь, чтобы войти в дом и остаться навсегда… Но теперь она не смеет поверить в то, что ей казалось и желанным и невозможным.
– Вадим, ты?
Вадим обнял ее, удивившись, что она так мала ростом, он уже успел забыть это, надо же! Лицом Анна уткнулась в его грудь, прижалась, вдыхая знакомый и ставший за столько лет родным запах, и вдруг заплакала.
– Ну не надо, не надо, – бормотал Акатов, целуя ее в макушку, в теплые, спутанные пряди. – Не плачь.
Но у него самого подозрительно щипало в носу из-за того, что она так некрасиво, так искренне заревела, из-за того, что он понял вдруг – браки заключаются на небесах, и ему на веки вечные дана от Бога именно эта женщина, маленькая и тщедушная, с морщинкой на переносице, с некрасивым распухшим ртом, прелестная и жалкая в своей слабости.
И еще он понял, что никогда и ни о чем не спросит у нее, никогда не потребует объяснений, пусть даже все, что говорила ему Галина, окажется правдой. Ведь у него у самого рыльце в пушку, он не чист перед Анной, и право у него только одно: любить ее, какой бы она ни была, любить до последнего вздоха.
Им не дали вдоволь пообниматься, потому что дверь, ведущая в покои Риммы Сергеевны, вдруг тихо раскрылась и на пороге показалась ее сиделка – крупная, черноволосая и такая неразговорчивая, что казалась всем глухонемой. Она и на этот раз не изменила себе, молча сделала приглашающий жест рукой, и Анна шепнула мужу: