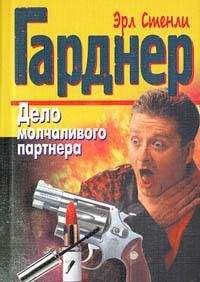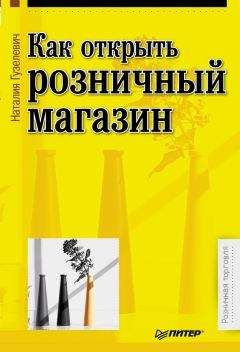Я усмехнулась: электрические лампы… Этим варварам все же не чужды блага цивилизации. Но они так боятся демонов, что жгут живой огонь в своих домах, освещая электричеством лишь тюрьмы. Где демонам и место. Как бы я хотела спалить этот проклятый дворец. Дотла. Чтобы на его месте остался лишь оплавленный песок, покрытый пеплом.
Я нащупала на груди цепочку, сжала в кулаке кулон, чувствуя, как металлические лучики до боли впиваются в кожу. Мне даже показалось, что кулон потеплел и едва заметно завибрировал, мелко, как дешевая детская игрушка-поскакушка, которую запускают, подкрутив пружинку. Будто папа говорил со мной через него. Будто поддерживал. И очень жалел.
Мне хотелось так думать.
Я вернула кулон под одежду. Прижала сверху ладонью, будто удостоверяясь, что он на месте. Сейчас эта малость была настоящим сокровищем.
Кажется, я забывалась сном. Не знаю, сколько раз — в полной темноте, без возможности видеть небо время превращалось в уробороса. Но в моем случае не было цикличности сна и яви, жизни и смерти, созидания и разрушения. Мрак сменялся мраком. Бездна бездной. Вскоре не осталось ни страха, ни холода, ни мыслей. Я хотела лишь одного — пить. Нёбо стало липким, язык будто увеличился в объеме, болел, точно ссаженный. Словно по нему прошлись мелким наждаком. Каждый вздох сушил глотку. Я чувствовала, как воздух достигает гортани и забирается в трахею. Как пустынный ветер с песком, как толченое стекло. Я сглатывала вязкую слюну, стараясь смягчить слизистые, но это давало облегчение лишь на пару мгновений. И все повторялось.
Умереть от жажды — вот что он выбрал для меня. Даже сидя в убогой квартире в Муравейнике я не додумалась бы предположить, что могу умереть от жажды. Даже если бы нечего было есть — из крана всегда текла белесая муть с привкусом железа. На худой конец, можно было бы выйти на улицу и найти старую колонку. Они всегда работали, как примитивные, едва ли не вечные механизмы, способные пережить ядерную войну. Дождь, в конце концов. Что угодно, только не жажда.
Слюна стала вязкой, как мокрота. Сколько человек может прожить без воды? Кажется, дней десять. Может, немного больше. Меня не интересовало это в школе. А нам рассказывали. Я тогда искренне не понимала, зачем должна это знать. Впрочем, и сейчас это знание ничего не добавляло. О том, сколько времени прошло, я могла судить только по своему состоянию, но никто не отменял психосоматику. Я отмерила для себя пару суток. Пусть будет так. Двое суток в кромешной тьме на голых камнях. Без пищи и глотка воды.
Я продала бы за воду душу. Я продала бы тело. Я думала о том, чтобы найти дверь. Биться, кричать и умолять. Сказать, что я готова на все. Быть рабыней, вещью, ковром под ногами.
За глоток воды.
Этого он хотел? Я надеялась, что этого, иначе я больше никогда не увижу свет. Я перевернулась, встала на четвереньки, разогнулась, пошатываясь, чувствуя коленями холод камня. Раскинула руки, пытаясь найти опору, хоть какой-то ориентир, но ловила немеющими пальцами лишь тьму.
Я вздрогнула всем телом, слыша лязг засова, замерла, не в силах шевельнуться. Лишь смотрела, как на полу жиреет нестерпимо-яркая полоса, неся или спасение, или гибель.
61
Я не видела ничего, кроме огромного белого пятна, будто замаранного черным. Где-то в глубине сознания понимала, что это человеческие фигуры. Но даже если они явились казнить меня, сначала я хотела лишь одного — пить. Ничто другое уже не волновало.
Я с трудом пошевелила пересушенными губами, но из горла не вырвалось ни звука. Язык будто онемел, не слушался, прилип кончиком к нижнему ряду зубов.
— Пить.
Я едва различала собственный голос. Выдыхаемый воздух обдал горло жаром, будто раскаленным паром из кипящей кастрюли.
— Пить.
Мне не отвечали. Разгорелась лампочка на потолке, заливая мое узилище болезненным светом. Я тут же зажмурилась, закрылась рукой, ослепнув. По глазам будто полоснули бритвой. Я долго моргала, пропуская свет через крошечные щели между пальцами, наконец, отвела руку. Окруженный спадами, заложив руки за спину, в нескольких шагах передо мной стоял аль-Зарах. В красном как кровь шитом серебром кафтане, в белом бурнусе. На белое и яркие вспышки в серебре мне было все еще больно смотреть. Я перевела взгляд на стоящую рядом цветастую Масабих-раису и опустила голову. Будто преклонялась.
— Умоляю, пить. Нимат альжана.
Плевать, чья рука это была. Я увидела жестяной бокал перед своим лицом, выхватила без раздумий и за несколько мгновений осушила, не успевая прочувствовать, как живительная влага наполняет меня. Я будто заливала пожар. Стремительно, обильно. Протянула пустой бокал:
— Еще.
Меня не волновало, что это могут счесть наглостью. Меня больше ничего не волновало. Мне налили еще. Я вновь припала к тонкому краю и жадно пила, чувствуя, как вода течет по подбородку. Появилась холодная тяжесть в желудке. И с ощущением мнимой сытости пришла слабость. Я осела на пол, оперлась на руку, чувствуя себя совершенно обессилевшей, разбитой, немощной. Будто я долго бежала, не жалея ног, надрывая жилы, изнуряя легкие, изматывая сердце.
Голос аль-Зараха заползал в уши ядовитой змеей:
— Ты не достойна этой милости, Амани. Ты не достойна целовать пыль у моих ног. Непокорная неверная сука! — На последних словах он все же сорвался, повысил голос. —Благодари неделю сарим и милость Всевышнего, позволившего мне быть милосердным. Всевышний дает тебе шанс: прими истинную веру и покорись судьбе. И я пощажу тебя, хоть твой поступок не имеет оправдания. Позволю подняться и вымолить прощение. Прими истинную веру.
Я не видела его лица, но понимала, что он пристально смотрел на меня. Как и Масабих. Еще немного — и во мне с шипением и дымом появятся дыры от их угольных глаз. Веру… плевать. Никогда не верила в богов. Сейчас я приму что угодно, сделаю, что угодно. Я лишь кивнула.
— Ты примешь веру?
Я вновь кивнула:
— Да.
— Синан-назиф.
Я подняла голову на звук мягких шагов. В камеру вошел невысокий старик с окладистой, совершенно белой бородой, похожей на ком взбитой ваты. В сером полосатом кафтане, опоясанном желтым кушаком с золотыми кистями. Вероятно, один из дворцовых кахинов, который денно и нощно молится за здоровье своего господина.
Он подошел совсем близко, сосредоточенно посмотрел сверху вниз:
— Готова ли ты принять милость Всевышнего и признать его единственным истинным богом?
Я лишь снова кивнула.
— Готова отречься от прежних богов?
Я кивнула. Была готова кивать и кивать. Столько, сколько понадобится, пока не отвалится голова. Наверное, кто-то сказал бы, что я слаба. А я бы ответила, что он просто не знает, что такое настоящая жажда. У каждого есть свой предел.
Синан-назиф кивнул Масабих, та подала ему тонкое белое покрывало. Кахин укрыл меня, занавесив лицо полупрозрачной тканью, положил руку мне на макушку:
— Согласна ли ты хранить истинную веру, во всем следовать священным заветам Альвайи?
— Да.
— Обязуешься ли хранить чистоту веры?
— Да.
— Имя твое — Амани. Всякое другое — греховно. Имя твое благословенно, тело твое чисто. Помыслы твои да минуют соблазны порока. Нимат альжана.
— Нимат альжана.
Кахин сдернул платок и поклонился аль-Зараху.
— Нимат альжана, — благоговейно отозвалась Масабих-раиса.
В ее глазах дрожала восторженность фанатика. Она смотрела на меня даже с какой-то слезливой нежностью, будто собственным старанием возвратила в лоно веры закоренелого грешника.
Аль-Зарах направился к выходу, обернулся, едва переступив порог:
— Завтра священный альсаби — седьмой день недели сарим. Кайся в своих грехах, Амани. Очисти душу от скверны. Я дам тебе шанс выказать свою покорность. Один шанс. И лишь от тебя зависит, сумеешь ли ты его использовать.
Тут же подскочила Масабих, надавливая мне на голову, чтобы я кланялась:
— Благодари господина, недостойная.
Я согнулась, как травинка на ветру: