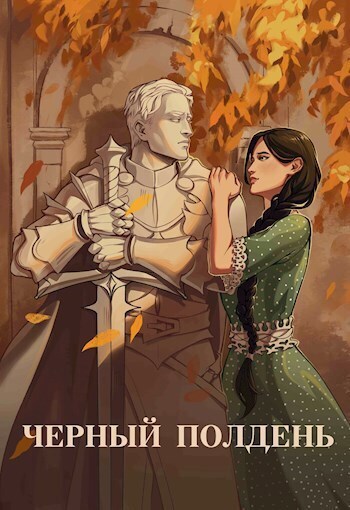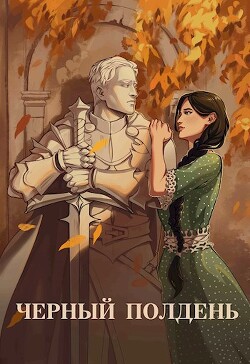себе, будто в лодке, и тянул вперёд, кружа. Я была в нём — песчинка, невесомое зерно, точка в бесконечности бытия. И он тоже был точкой, абсолютной и неузнаваемой, но не узнать было нельзя.
— Дезире!
Мы соприкоснулись на мгновение, и меня прошибло, будто молнией, от макушки до пяток
…он стоит по колено в мёртвой воде, густой, жирной, страшной. Деревья стекают вниз каплями жжёной плоти, и травы рассыпаются трухой и скользят по маслянистой глади сизо-серым пеплом.
Во всякой волне — пасть, искажённая воплем ужаса.
В далёком береге — чёрный камень без следа жизни.
Тягучие струны-капли, связывающие землю и воду, — пуповины, в которых пульсирует кровь.
Мёртвая вода собрана из тысяч стеклянных осколков. Они перекатываются с шелестом и звоном, скрежетом и криком, и над ними стоят глаза, мёртвые и живые одновременно.
— Ты слышишь меня, — значится в них. — Я знаю, ты слышишь меня. Так чего же ты хочешь?
И всё вокруг серое, или чёрное, или красное, или мёртвое. И ничто не дышит. И нет ни звука, и небо немое и низкое, и всё, что есть под ним белого — сияющий меч.
Тогда он поднимает его.
Я хватанула ртом воздух и завалилась на спину.
Надо мной — потолок, белёный с синькой и перечёркнутый длинной трещиной там, где угадывался контур балки. С крюка на витом проводе свисала лампочка, на стене — бледный выцветший пейзаж, ещё чуть ниже, на самом краю видимого — красный умывальник над жестяным тазом.
За окном темнота. Форточка плотно закрыта, и занавески неподвижны.
Тихо. Только оглушительно стучало сердце.
Была ли это — магия? Странные видения, дрожащие на пальцах так, словно только они и есть реальность. Они пахли ничем, но казались — магией. Запретной магией, неблагой, чёрной.
Но я ведь и не делала ничего, ничего не прочла, не сказала ни единого слова. И там был Дезире, там, в этом свете, яркая искра в сияющем потоке. Я коснулась его, и тогда…
Был ли это его сон?
Кап, — сказали мои внутренние часы, и вместе с этим будто снова запустилось время.
Кап. Кап. Кап, кап, кап.
А за этими каплями и за звуком часов — то ли шелест, то ли свист, то ли звон; прислушаешься — пропадёт, будто и не было. Вот только теперь я вдруг почувствовала холодным, противоестественным чувством: он действительно есть.
Это шептали осколки, из которых собраны волны в мёртвой воде. Там, на-обратной-стороне-бесконечного-света, вода говорит тысячей голосов и отражает в себе самые страшные в мире глаза.
Эта вода точит камень.
Весна пахла сумасшествием, и не поддаться ей было нельзя: когда по реке прошли с репетицией парада корабли, зверь взволновался и потребовал свободы и гульбищ.
Больше всего это было похоже на то, что какая-то невидимая часть меня — третья рука, или третья нога, или, на крайний случай, хвост, — решила жить своей жизнью, и эта жизнь непременно должна быть в дикости и грязи. По зиме я обращалась от силы раз в месяц, и то просто сворачивалась клубком на подушке и лежала, подрёмывая и грея бока; но теперь случилась весна, а весна — это время для приключений и того, чтобы потеряться в лесу и никогда не найтись.
Наверное, нет во всех Кланах подростка, который никогда не сбегал бы из дома в лес и не проводил там в зверином обличье неделю или чуть больше. Это примерно то же самое, что подхватить простуду: ты и не хочешь вроде как чихать, но что-то в тебе никак не может от этого отказаться. Ты чихаешь, тело складывается пополам, жмурится, хватает ртом воздух.
Ну, или уносится в буйную дикую зелень, чтобы жрать там что попало и радоваться пустым дурным радостям.
Я тоже сбежала так однажды, конечно. И, конечно, огребла: тётку Сати тогда только-только выпустили из больницы, мы переехали к ней от соседей, в доме были разруха и плесень, а Гай прогуливал математику. А я развлекалась на серых склонах Марпери и наелась каких-то жуков. Сейчас, будучи взрослой, я бы и сама себя за это треснула веником. Тогда — было обидно.
Сейчас было обидно тоже, обидно и тревожно, но совсем иначе: день звериной гулянки — это целый день, который я проведу вне колдовских склепов. А время течёт, течёт, течёт и утекает, и я чувствую пятками, как дорога подо мной несётся всё быстрее куда-то совсем не туда, куда я хотела бы, чтобы она повернула.
Но третьей руке не прикажешь. Поэтому как-то в пятницу я затолкала в сумку махровое полотенце и побольше чистых носков, погладила мраморную голову по волосам и уехала с вокзала на пригородную станцию, затерявшуюся между лесом и кольцами реки.
Огиц — странный город: здесь специальным указом муниципалитета запрещено оборачиваться в публичных местах; это то ли оскорбляет наших иностранных гостей, то ли создаёт какие-то там угрозы общественной безопасности. Зато по округе раскидано порядочно домиков и шатров, где предусмотрены раздевалки и даже душ, а на огороженной территории совершенно точно не бывает охотников. Я выбрала пункт у каменистого склона, немножко похожего на места вблизи Марпери, и с полчаса плутала по дорожкам среди дачных домиков.
— Бронь? — хмуро спросил у меня кабан, мощный даже в челоческом обличье.
— А так… нельзя?
— Можно, — пожал плечами он и вынул из ящика пачку пустых квитанций.
Мужскую и женскую половины символически разделяла штора из парусины, пропахшая сотнями зверей и немного — хлоркой. Для новеньких вроде меня на стене висели яркие, бойкие плакаты: сложи вещи в ящик, поставь на полку, не бери чужого, вытирай ноги, не мочись в душ…
Я фыркнула, повесила пальто на вешалку и принялась раздеваться.
По ногам тянуло холодом, а пара девиц в углу безудержно трещали, обсуждая какого-то красавчика, не обременённого пока парой. Я расплела косу, пропустила тяжёлые пряди сквозь пальцы. Лунные знаки рассыпались по плечам.
Я зажмурилась — и обернулась.
Дать зверю волю — это будто разрешить себе стать, наконец, настоящей.
Ты отбрасываешь всю человеческую шелуху, стряхиваешь её с себя, как отмершую кожу, и выскальзываешь в свободный, дикий мир, чтобы наконец занять своё место. Ты не становишься зверем, нет; ты вспоминаешь, что зверь — это и есть ты.
Тело сжимается, комкается, будто податливая глина, и ты лепишь себя заново. Мир вокруг подскакивает куда-то вверх, сереет, расцвечивается новыми красками и движется рывками, дрожа и смазываясь. Зато если смотреть в конкретную точку, она обрастает подробностями