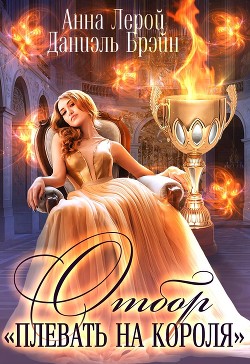значит, в двери есть прорезь или окно.
В меня ткнули куском черствого хлеба, и я получила ответ на свой вопрос, как давно идет бунт. Что-то все же у меня не сходилось… Что?
— Давно вы здесь? — спросила я у Мишель. Глаза мои немного привыкли к тьме, я рассмотрела, что у нее светлые волосы. — Куда-то пытаетесь дойти?
Не больше шести-семи часов, иначе вонь, характерную для таких убежищ, я почувствовала бы даже здесь, в средневековом городе. Здесь было смрадно, но не пахло дерьмом. Мишель помотала головой.
— Мы только пришли сюда. Шестой день так…
— Болтаешь много! — шикнул на нее Рош, поднялся и направился к двери. Я держала хлеб в руке — он был слишком твердый для того, чтобы я могла разлепить свои разбитые губы и не поранить их еще сильнее.
Я оказалась права — в двери была прорезь с задвижкой. Тихо захныкал ребенок, мать принялась его успокаивать. Рош какое-то время стоял у двери, потом закрыл задвижку, зажег свечу, проговорил:
— Светает. Арман с остальными сегодня уже не дойдут. Нам сидеть тут до вечера, как темнеть начнет, выйдем, поищем новое место. Повезет, так в соседний квартал уйдем, не повезет, так хоть куда приткнемся.
— И так уже сколько нас осталось, — возразил кто-то. — Кто живой, кто мертвый, уже не знаешь. Сидели бы здесь, ждали помощи.
Помощи? Я повернулась к Мишель. Поесть мне бы надо, но… я протянула ей свой кусок. С провизией все очень плохо. С информацией еще хуже. Они пытаются перебираться от свободного места к свободному месту группой? Кто успевает, а кто нет? Та изувеченная несчастная, которую я накрыла своей курткой, тоже из этих людей?
— Много нас здесь? — спросила я у Мишель.
— Все, кто на рыночной площади был, — отозвалась она. — Много было. А сейчас только те, кто сюда дошли. Не хочу дальше идти, мне страшно. Скажи им, что надо здесь сидеть. Ты святой, тебя послушают.
Помогла бы кому та святость, солнышко… Все, кто был на площади, когда начался бунт, а он вполне мог начаться именно с рынка, ломанулись в безопасные места. Добежали не все, повезло единицам. Теперь они стараются выйти из города, и у них почти нет еды, с водой тоже проблемы, и их слишком много, чтобы такие перебежки остались бы незамеченными. План города? План строений? Хотя бы еда и вода. Вода — главное.
Когда начался этот бунт? Шесть дней назад. Шесть дней, и они до сих пор не вышли из города.
— Рош, — позвала я, — есть бумага и перо?
— Тебе зачем? — окрысился он недобро. — Молиться будешь?
— Нет. Надо нарисовать план города. Здесь достаточно людей, могут сказать, где какие дома им знакомы, где находятся лавки. Сколько у нас еды? — продолжала я, игнорируя, что Рош смурнеет. — Вода есть? Здесь женщины и дети. Если мы не выберемся…
— Какой ты умный, — проворчал Рош. — Точно есть за что вас вешать. Сиди, коли жизнь дорога, и закрой рот, или выкину тебя на улицу прямо в пекло.
— Отстань от мальчика, — услышала я снова знакомый голос из темноты. Туда свет не доставал. — Иди сюда, ко мне, брат Валер, у меня бумага есть и перо, помолимся… Мне сейчас только молитва и поможет.
Я поднялась. Нога заныла, Мишель просительно посмотрела на меня, но не встала следом: молитва, наверное, была делом интимным, только указала мне, куда идти. И я пошла, переступая через руки и ноги, считая людей и вещи, оценивая размер убежища.
Маленькое. И много вещей. Тюки, свертки. Все это они тащат с собой или оно здесь было? Сомнительно, тогда этот дом разграбили бы в первую очередь. Пока я шла, донеслось активное шевеление и следом характерная вонь, и я поняла — вот кто-то не вытерпел. Прочие не сказали ни слова, тоже привыкли за эти дни и относятся как к неизбежному. Плохо: не в эстетике и приличии дело, а в антисанитарии.
Я насчитала человек десять, прежде чем добралась до угла и смогла рассмотреть крупного, статного мужчину. Он чем-то чиркнул, зажег свечу. Рядом с ним не было никого, одни тюки, и на одном покоилась перемотанная грязными окровавленными тряпками искалеченная нога.
Мужчина указал мне сесть рядом с ним. Я послушалась. Хотя бы узнаю, как молятся, если мне повезет, узнаю, потому что он подаст мне пример. Если удача будет не на моей стороне — меня вышвырнут. Есть здесь боги? Так помогите мне.
— Садись, брат, поговорим с Молчащими, — предложил он. — Кто видит, тот знает, кто знает, тот знак подаст, — и он приложил руку ко лбу.
С ним тоже все очень плохо. Лицо горит, и пока мужчина в трезвом рассудке, но долго ли еще он протянет, неясно. Я тоже приложила руку ко лбу и постаралась рассмотреть его ногу. Нет, даже опытный хирург не смог бы для него ничего сделать. Пальцы ноги казались практически черными. Я, имея понятие лишь о первой помощи в критических ситуациях, лишенная даже стерильных перевязочных средств, абсолютно бессильна.
Мужчина зашуршал бумагой, заскрипел пером. Он выводил что-то, я думала: какой бы тут ни был язык, я его понимаю, а что насчет письменности? Но он закончил писать, протянул мне вначале перо, затем лист бумаги — плотный, желтый, рыхлый, — и поднес поближе свечу.
Я взглянула на каракули, заранее готовая к тому, что ни черта не разберу. Но нет, я легко сложила незнакомые знаки в слова и поняла смысл. И потому смотрела на лист, не поднимая головы и думая, что ответить.
«Бегите отсюда, моя госпожа. Они вас не пощадят».
Он узнал меня? Или понял, что я переодета? Что мне грозит, если меня разоблачат? И знаю ли я, та, которая я из этого мира, этого обреченного человека? Он протягивал мне теперь и заляпанную чернильницу, подталкивал к ответу, а я никогда в жизни не держала в руках перо и не понимала, как писать эти буквы.
Вышло так же механически, как и чтение.
«Мне некуда бежать».
Отличный ответ — исчерпывающее отчаяние. Быстро, пока мужчина не выхватил у меня лист, я дописала: «Что с вашей ногой?».
Он забрал у меня бумагу, покачал головой, кивнул чуть заметно в сторону двери. Потом приложил ладонь к губам — новый знак, надо запомнить и попытаться понять, когда какой