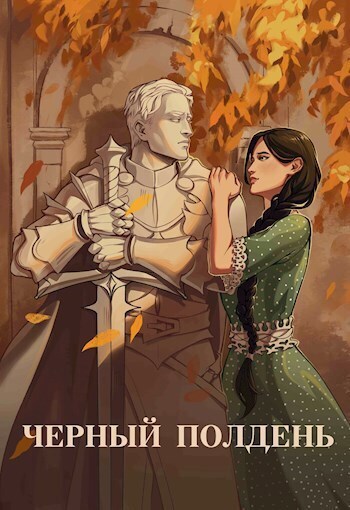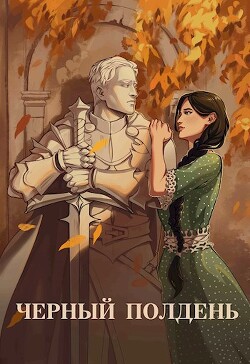где-то ещё легко читались узкие жирные буквы:
принимает в Огице с Долгой Ночи и до первой весенней грозы.
Как-то, не удержавшись, я позвонила по телефону с плаката, но мне ответила щебечущая девушка, судя по голосу — хохотушка. Он знать ничего не знала об оракуле, зато звала меня на последние спектакли этого сезона.
Грозы всё не было. Саркофаги все оказались не те. Голова рыцаря оставалась молчаливым куском мрамора, а лён всё никак не превращался в саван. Я сняла один из плакатов, отрезала от него верх, с красно-чёрным абстрактным узором, и попросила в багетной мастерской вырезать мне таких печатей для ткани.
Моя комнатка была совсем маленькой, и в ней никак нельзя было расправить ткань целиком, даже если бы я вынесла всю мебель. И большого стола, вроде раскройного, в наёмных комнатах, конечно, не было тоже. Я думала даже попроситься в какой-нибудь цех, но от этого по плечам почему-то побежал холодок.
Расправила отрез по обычному столу, поскладывала её так и эдак, замерила и перемерила, чтобы попасть узором в задуманное место, придавила ткань головой, чтобы не скользила. Развела в двух блюдцах чернила, испоганила пробами с десяток страниц блокнота.
— Я всё читаю, читаю, — сказала я, оставляя на ткани первый робкий оттиск, — и мне кажется… знаешь, мне кажется, тебе всё-таки зачем-то нужно проснуться. Может быть, даже не тебе нужно, а нам. Наверное, это нужно… нам.
Голова молчала.
— Ты и правда… не помнишь?
Я взяла другую печать, треугольную, и шлёпнула ею несколько отпечатков подряд.
— Ты что-то помнил. Это было заметно. Но не всё, наверное. Ту деревню, Осинки или как их там… Мне кажется, ты не помнил этого. Ты знал, что есть что-то плохое, но ведь… не такое? Или…
Красные чернила похожи на кровь. Я не замечала этого, пока смотрела на плакат, но здесь, во влажной поблескивающей краске, это стало вдруг очевидным.
Чёрные оттиски были чёрными, как немой берег, как мёртвая вода, как текущая с неба смолянистая гниль. Красные были густой, багряно-бурой кровью, липкой и пахнущей болью.
А льняной отрез, мой холст, был светлым, как обесцвеченное сияющим мечом небо.
Какое-то время я глядела в него, унимая дрожь в пальцах. Проморгалась, поставила пару оттисков. И заставила смотреть в переплетение льняных нитей и то, как медленно расползается по волокнам краска.
Пока она сохла, я лежала на кровати, запустив пальцы в мраморные волосы, и любовалась тем, как по белёному потолку рассыпались блики от мендабелё. Они плясали надо мной, складываясь с каждым моим вдохом в новый узор, а потом картинка разбивалась заново. Они кружились, сплетаясь, смешиваясь цветами и делясь друг с другом светом.
Этого света было всё больше и больше. Он пробуждался где-то внутри, ласковый и тёплый. Я лежала неподвижно — тело свинцовое, глаза закрыты — и вместе с тем тянулась к нему руками, пока вокруг не оставался один только свет, белый-белый, полный цветных разводов вроде тех, какими горит небо в Долгую Ночь.
— Наверное, это плохо, — шептала я, касаясь тонкой золотой нити, связывающей меня с чем-то ещё, — наверное, я не должна. Но я… я так хочу, чтобы ты проснулся. Я… я жду, ты знаешь? Ты только…
Золотая нить крепла с каждым днём. Она и пугала меня, и почему-то давала нелепую, слепую надежду, как будто эта связь обещала мне другую жизнь — новую и лучше прежней, и вместе с ней свободу, и выбор, и смысл. В ней было что-то пронзительно волшебное и при этом ужасно интимное. Очнувшись, я ещё долго лежала с глупой улыбкой, глядя, как надо мной кружится потолок.
А потом садилась — и бралась за другие нити. Разрезала их на равные отрезки, связывала узлом, вешала на гвоздик от картины и плела, плела, плела.
Плела чёрно-красно-белый шнурок, а потом свивала шнурки вместе. Концы обжала медными колпачками, и к ним привесила пушистые тяжёлые кисти.
— Меня зовут Олта, — сказала я важно, и цветные искры рассыпались по тяжёлой малиновой мантии колдуна. — Олта Тардаш из Марпери. Я голос жреца Луны, и по поручению лунного господина…
Был почти конец мая, и город пропах рекой и сиренью, пьяной и ядовитой. Пару недель назад по набережным прокатился шёлковый паланкин, в котором прибыли в хрустальный дворец какие-то важные лунные, но я видела их только на мутных фотографиях в газете.
— Наш склеп? — колдун встревоженно посмотрел на тёмное небо, а затем посторонился в дверях: — Проходите.
Это был довольно простой дом, какого-то не очень значительного рода. В склепе здесь были толстые деревянные опоры, наборный паркет и потолок, выложенный мелкой плиткой и ракушками; саркофаги были такие же, все один к одному, в дереве и с ракушечным декором.
— Спасибо, — сухо сказала я. — Это всё.
— Если на то воля Луны, — задумчиво протянул колдун. — Госпожа голос, кажется, будет дождь. Вызвать для вас водителя?
Я покачала головой, поправила свитер на плечах и спустилась по ступеням.
Я не боялась дождя. Мне даже хотелось отчасти вымокнуть, чтобы снова почувствовать себя живой. Но пока только ветер гнал по улице вниз пыль и кленовые серёжки, трепал платье, звенел нитями в моих волосах. Я глянула вверх и всё-таки ускорила шаг.
Сверкнуло. Это молния разбила небо, ткнулась белыми шипами в громоотводы, прокатилась по холмам вибрацией. Вслед за ней — грохот: такой оглушительный, что заложило уши. Иссиня-фиолетовые, глубокие глухие тучи клубились над головой, комкались и скручивались.
Молния рождалась где-то в глубине, и тогда тучу на долгое мгновение высвечивало изнутри, будто кто-то зажёг в тумане фонарь. Потом это свечение затухало, и вместо него разбегался по куполу неба слепящий разряд.
Их было пять или шесть подряд, злых ветвистых молний, звенящих в воздухе сухим электричеством. Ветер пугано прятался в юбке, измученно скрипнула едва зацветшая груша.
Туча вздохнула — шумно и совсем по-человечески. И в город осколками ударил дождь.
Вперёд неё в комнату вошёл запах: плотный, тяжёлый запах духов, сладких и неуловимо несъедобных. Вкусно, — и вместе с тем так много и так ярко, что нелегко вынюхать за духами человека.
Колдунья, конечно. Высокая, полная, очень холёная. Пухлые белые пальцы все унизаны перстнями, длиннющие ногти заточены и выкрашены алым; гостья была одета в расклешённые брюки и атласную блузку с пышным бантом и крупной брошью, а светлые кудри прикрывала зелёная — в тон к брюкам, — шляпка с густой тёмной вуалью.
— Добрый день, — дружелюбно сказала женщина. — Верно ли я слышу, что вы — госпожа Олта