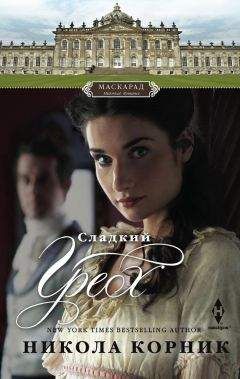— И зачем тебе это нужно? Если граф не примет тебя на службу, тебе всё равно придётся стать послушником.
— Да, только принести обеты вы меня не заставите, — огрызнулся Норберт. — Отказать отцу, пока мне нет семнадцати, я не могу, но в семнадцать я просто уйду из обители и вступлю в Гильдию Наёмников, так и знайте.
— Норберт! — Матушка ахнула и схватилась за сердце. — Что ты говоришь?
— Что я не гожусь в служители Девяти, — буркнул он.
— Ты ещё слишком молод, чтобы судить об этом.
— То есть, вы и мне хотите жизнь поломать, как Лотте? Её продали ремесленнику, меня спихнёте храму?
Матушка раскричалась, расплакалась, пригрозила пожаловаться отцу, однако Норберт упрямо молчал, по-отцовски выпятив челюсть. Лотта опасалась влезать в разговор, чтобы не расстраивать матушку ещё больше, но в душе была с Норбертом согласна. Эх, почему она не родилась мальчиком? Её бы тоже учили обращаться с оружием, у неё был бы хоть какой-то шанс взять жизнь в свои руки… А ещё её удивляло, что даже мальчишке пятнадцати лет ясно, что этот брак сломал ей жизнь, а родители упорно не хотели этого видеть. Даже настроения не было видеться с ними.
Но пока они оставались в городе, виделась Лотта с матерью почти каждый день, хотя это уже начинало её утомлять. Та всё восхищалась, как Лотта одета-обута, как похорошела, как на неё, такую нарядную, оглядываются на улице молодые люди… Нет, это и правда было лестно, конечно, но не каждый же день по десять раз об этом слушать! То есть, что «оглядываются», она бы и десять послушала, но так грубо намекать, что дело больше в бархатном плаще, отделанном лисьим мехом, чем в румяном от мороза, свежем личике дочки… Даже странно слышать такое от родной матери.
Так что, когда они уехали, Лотта вздохнула с облегчением. Она и не представляла, как можно, оказывается, устать от собственных родителей. Норберт, кстати, остался послушником в храме Аррунга, бога-воина. Лотта обещала его навещать, когда разрешат, но и разрешали не слишком часто, и обитель находилась довольно далеко от города. Да и не много было свободного времени у послушников, из которых готовили охрану для защиты храмов и сопровождения старших жрецов. «Ладно, — кривясь, сказал Норберт на прощание, — хотя бы не полы в храме Канн мести. Хоть форму не растеряю за эти два года». Очевидно, от своего намерения уйти в наёмники он не отступился, но Лотта не стала выдавать его отцу. Должен же хоть кто-то из их семьи устроить свою жизнь так, как хотел сам.
И потянулись прежние унылые серые будни. Не считать же развлечениями походы в театр, который Лотте был непонятен и скучен (когда матушка с билетами в руках чуть не запрыгала, как девчонка, Лотта удивилась этому больше, чем радости Норберта от подаренного ножа). Как не было развлечением и присутствие за обедами разных веберовских знакомцев, среди которых полным-полно было нелюдей: слушать их было нестерпимо скучно, с их налогами, договорами и неаппетитными подробностями их ремёсел, а говорить с ними о балах и танцах…
А однажды на такой обед был приглашён молодой жрец Сармендеса. Глядя на него, Лотта почему-то подумала, что вместо жреческого долгополого одеяния на нём куда более к месту смотрелась бы мантия, какие она разок-другой видела на магах. Он и говорил-то за столом больше о снятом проклятии и о том, что в Паучьем Распадке даже дышать как будто легче стало, чем о Девяти богах и их Скрижалях.
Правда, после обеда попросил у Вебера разрешения побеседовать с его супругой. Лотту после такой просьбы даже затошнило слегка от волнения. Она вспомнила, как пожаловалась в храме Канн на малефикаршу, угрожавшую проклясть её. Неужели отец Мартин пришёл, чтобы узнать подробности и разобраться с наглой тварью?
— Скажите, сира, почему вы не состоите ни в каких благотворительных клубах, как полагалось бы женщине вашего круга?
— Что? — изумлённо переспросила она.
— Ваш супруг, — ровно и размеренно продолжил Мартин, не отвечая на её восклицание, — оплачивает еженедельный осмотр лекарем всех больных и раненых, лежащих в притворе нашего храма. Его фаворит пятую часть своего гонорара, полученного за третью книгу, пожертвовал обители Аррунга. И это мужчины, сира. Вы женщина, ваше сердце должно быть мягче и отзывчивее, но я ни разу слышал о том, чтобы вы хотя бы спросили, чем можете помочь?
— А чем я могу помочь? — запальчиво возразила Лотта. — Положенного содержания мой консорт мне не платит…
— Прошу прощения? Ваш консорт — что? Сира, вы только вдумайтесь в то, что говорите: ваш консорт не выплачивает вам содержания. Так, может быть, он вам не консорт? Глава семьи обязан сам содержать младших её членов, а не требовать денег с них.
Он смотрел на Лотту чуть насмешливо, и она почувствовала, как загораются скулы.
— Как я могу кого-то содержать, когда мне никто не позволяет даже служанкам указывать на плохую работу.
— А вашему отцу требуется чьё-то разрешение для того, чтобы указывать другим, что делать? Что вы сделали для того, чтобы стать главой семьи не только по брачному договору? Может быть, вам для начала следует хотя бы затребовать все документы по вашему имению и попробовать разобраться, сколько доходов вы с него получили и сколько расходов оно потребовало?
— На это есть управляющие, — возмутилась Лотта.
— Понятно, — кивнул жрец. — Вы не хотите трудиться, не хотите ни за что отвечать, а хотите только командовать, указывая другим на их недочёты. А вы не обращали внимания, сира, сколько времени ваш отец тратит на дела своего баронства? Может быть, поэтому он ни у кого не спрашивает разрешения, куда и сколько денег ему потратить?
Она закусила губу. Отец иногда неделями не бывал дома, но он мужчина и глава немаленького владения, у него одних вассалов больше дюжины. А матушка просто всегда распоряжалась по хозяйству, лично проверяя припасы и просматривая постельное и столовое бельё на предмет починки. Но её-то, Лотту, старая грымза Гризельда просто не пустит в кладовку ни с бакалеей, ни с бельём. То есть, пустить-то пустит, конечно, а вот проверить, всё ли там в порядке, точно не даст. Сколько, интересно, она к себе домой перетаскала простыней и скатертей, потерявших вид новых? И кто, кроме неё, решает, годятся ли они ещё для хозяев или пора их отдавать прислуге? Или вообще продать… Да она тут озолотиться должна была за годы службы!
— При храме Канн есть приют, — продолжил тем временем отец Мартин. — Помогать тамошним сёстрам шить рубашки для подкидышей не считает для себя зазорным даже её светлость Изабелла, младшая дочь графа. А в доме сиры Хильды каждый месяц проводятся благотворительные распродажи. Состоятельные женщины приносят к ней наскучившие или ставшие не по фигуре наряды, а девушки из небогатых семей могут купить эти платья за одну-две серебряные монетки. Всю выручку сира Хильда жертвует храму Хартемгарбес, никакого меркантильного интереса у неё нет, ей просто нравится смотреть, как девушки, стыдящиеся своих дешёвых платьиц, уходят счастливые, прижимая к груди свёртки с нарядами, которых иначе просто не могли себе позволить. У вас нет ни одного платья, которого вам не было бы жаль для девушки из хорошей, но бедной семьи?
— Но… — растерянно проговорила Лотта, — я никогда не слышала ни о чём подобном. Мне никто никогда такого не рассказывал.
— А сами вы и не спрашивали, — кивнул жрец. — Теперь знаете, дальше дело вашей совести.
Задумавшись, Лотта даже забыла пожаловаться ему на ведьму Голд. Шить рубашки для ублюдков будет, конечно, скучно и противно, но если там бывает даже дочь графа, может быть, там удастся познакомиться с кем-то более… полезным, чем старые гадюки?
Ох, ну побывала она в этом приюте. В небольшой и скромной приёмной не было никого, кроме пожилой послушницы, откровенно обрадовавшейся, когда Лотта выразила желание помочь подкидышам. Её хромая помощница, манерами и взглядом очень похожая на Хаггеш, приволокла штуку дешёвого серого полотна, и сестра-кастелянша спросила, сколько рубашек «её милость» возьмётся сшить. Лотта решительно заявила, что с полдюжины, и спросила про сиру Изабеллу.