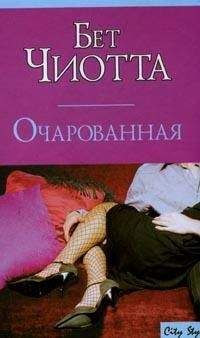Через несколько лет, наученный поистине горьким опытом, он уже станет в твёрдом пребывать соображении: доверять и поверять тайные помыслы свои невозможно никому, и слуги, разумеется, доносят в первый же час. Да что! Доносят в первую же минуту после произошедшего. И слуги, и дворяне, и верные и почтительные друзья доносят и предают в первую же минуту, да. Так оно и есть! В первую же минуту!
— Плащщ! — приказала бабушка, словно бы плащом желала защитить его от предстоящего испытания. — И феликому кнэсю Конштантину плащщ! — указала на братца.
И вновь ощущение театрального действа на миг пролетело сквозь сердце. Боже мой! Он совершенно незащищенным стоял на открытой всем ветрам сцене. И так ему придётся стоять много, много лет. Он вовсе не знал роли, не читать же роль с листа, как это делают по вечерам у бабушки. Боже мой! Боже мой!
Засуетились; прислуга кинулась; смех — ему с братцем не предуготовили плащей в дорогу! Тут же несколько генералов сдернули с себя плащи, а Зубов — он прекрасно успел заметить, — Зубов остался стоять в своём серебристом плаще, и, не подумавши даже двинуться, словно бы выше находился по положению, нежели чем они с братцем; только поправил на себе панагию с бабушкиным портретом. А он, как маленький, проверил, все ли пуговицы застегнуты на мундире — провёл рукой; в детстве пуговицы частенько расстегивались сами собою, прибавляя хлопот воспитателям; в будущем он обязательно правильно, в соответствии с необходимостью, установит количество пуговиц на мундирах — восемь, ну, максимальное количество — двенадцать, не более того.
Ещё сунулись с теплыми ботфортами, но ведь, чай, не зима стояла, сентябрь месяц. Бабушка стала гневна.
— Фьюить! Фьюить! — вновь раздался посвист сквозь зубы. Ботфорты полетели прочь. — Фьюить! Вщюк! — так бы и прошёлся по дурацким спинам хлыст, то-то в другой раз повезли бы резвей! Но хлыст не прибавит челяди мозгов, воспитание челяди бессмысленно, надо просто отправлять их вон — в Сибирь ли, на плаху ли, просто ли вон от особы своей — всё едино; что-что, а это бабушка отлично понимала. И он с того дня всегда, отправляясь в ответственное путешествие, спрашивал, положили с собою иное, тёплое платье — плащ, шубу — или же нет. Но и донесеньям челяди тоже веры никакой быть не может. А батюшка потом, в течение четырёх лет, четырёх месяцев и четырёх дней ежедневно пытался воспитывать челядь — смешно! Тщета, тщета! Русский народ невозможно пронять ни страхом, ни деньгами — ничем. Воспитывать его бессмысленно. А денег, кстати сказать, вообще народу нельзя давать никаких. Даже для лучшего устроения отеческой промышленности и более легкого купеческого оборота товаров, о чём ему говорит милый друг Адам. Нельзя денег давать никаких. Никогда. Даже если бы в государстве было сколько угодно денег, которые — ассигнации — возможно, впрочем, изготовить сколько угодно, это же проще простого — напечатать ассигнации. Но даже если, значит — так думал, — если напечатать ассигнации, денег народу никаких нельзя давать. Мысль пролетела о деньгах и ушла — тогда, чтобы потом возвращаться вновь и вновь.
А то давнее посещение фабрики он всю жизнь помнил очень ясно — видимо, потому, что впервые и, наверное, единственный раз в жизни увидел нечто, выходящее за круг привычных с детства картин. И это нечто вызвало чувство отторжения, нежелания. Хотя, будучи уже через несколько лет пред Богом ответственным за всё, что происходит в России, он не мог не понимать, что где-то должны производить и мануфактуру для солдатского сукна, и, например, корабельные канаты… Канаты… Пушки… Ядра… Лучше всего, разумеется, в Англии или в Голландии. А мы будем платить лесом. Или пенькою. Однако же принципал не должен входить в заботы по изготовлению сукна, на это есть купцы и соответствующие государственные департаменты.
И здесь батюшка, значит, ошибался: император великой империи, самолично входящий в заботы об окраске мануфактуры, неизбежно упускает вопросы более важные, касаемые до тактики и стратегии формирования и передвижения войск, а также общие вопросы обмундирования — только общие вопросы, касаемые, впрочем, и конкретных определений по части воинской фурнитуры. Пуговиц, например, а также, например, нашивок и кантов. Тут батюшка всегда осуществлял резонное наблюдение, вполне соответствующее обстоятельствам дела, и он тоже — потом, в протяжение почти четверти века — полагал необходимым в вопросах обмундирования быть предельно требовательным.
Величина обшлагов. Величина генеральского и офицерского плюмажа. Количество, значит, пуговиц на сюртуках низшего и высшего офицерского состава, а также рядовых. Число нашивок на рукавах горнистов гвардейских полков и полков пехотных. Размер обшлага. Цвет лосин. В частности, введённые им — ну, это потом, в будущем, в очень далеком будущем, — введённые им в кавалергардском полку чёрные сюртуки и лосины существенно содействовали сокрытию, значит, некоторой появившейся у него в том далеком будущем полноты, поскольку он сам, как правило, носил именно чёрный кавалергардский мундир.
Правда, тогда, в Тильзите, он явился облачённым в темно-зеленый мундир Преображенского полка, отделанный красными лацканами и золотыми петлицами, с аксельбантом на правом плече. В талии перетянулся широким красным шарфом — потребовал, чтобы затянули его так, чтобы ясно обозначилась бы талия; настолько оказался поглощён этими приготовлениями к встрече с корсиканским выскочкой — даже не вспомнил о другом красном шарфе — конногвардейском зубовском — в марте восемьсот первого года. И то сказать — уж несколько лет прошло. Не было того шарфа, не существовало никогда. Тогда, в Тильзите, надел ещё узкие белые лосины и короткие чёрные ботфорты с маленькими, противу устава, отворотами, на руки — белые перчатки, а голову покрыл высокой треуголкой с чёрно-белым плюмажем. Волосы сугубо напудрил. Надел ещё голубую андреевскую перевязь и шпагу — разумеется, прицепил шпагу — не ту, свадебную, с золотою рукояткой, а свою любимую парадную шпагу — тоже, впрочем, с витой золотой рукояткою.
Так что, значит, получается, что цвет обмундировки и её сугубая выделка всё-таки — да, признаться, тут он в самой ранней молодости был не совсем прав, — всё-таки цвет и выделка обмундировки тоже могут входить в круг интересов принципала.
С этой точки зрения посещение фабрики вполне оказалось полезным: втереть ему очки, говоря о, например, шинельном сукне, теперь стало невозможным — так полагал он.
А тогда он дрожащей рукою поднял к левому глазу лорнет, словно бы собирался сейчас писать или читать, а не осматривать машину, — с детства же стал плохо видеть левым глазом; потом, через несколько лет, батюшка Павел Петрович вообще запретил ношение очков Военным Уставом, но и тогда очки у одетого в военный мундир великого князя смотрелись бы весьма, весьма странно — разрешался лорнет; линза в золотом колечке несколько времени не садилась на глазницу.