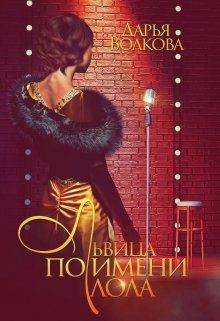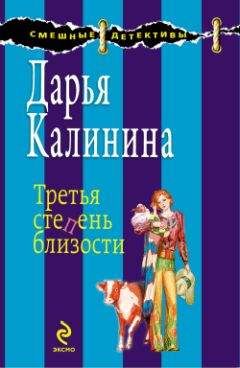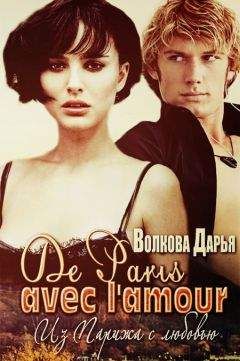— Это почему это?
— Потому что он мужчина!
— Ох, Тонька, Тонька… Если бы женщины в вопросах любви, семьи и деток на мужиков полагались — люди б вымерли давно, — тетя похлопала меня по плечу. — Давай спать ложиться, устала я.
Тетя заснула быстро. А я никак не могла уснуть. Тётины слова засели у меня в голове. А если это и в самом деле так? Если и в самом деле любит? Тогда почему не сказал? А ты сама почему не сказала?
Потому что страшно. И гордость. И… И все-таки страшно. А вдруг — нет. Ты любишь, а тебя нет? А если да? О, господи…
— Тонька, ты или прекратиться вертеться, или иди к своему ненаглядному под бок в машину спать, — раздался из темноты теткин голос. — Не уснешь этак с тобой.
— Все-все, я тихо буду лежать, — устыдилась я. И старалась лежать тихо и не вертеться с боку на бок. Но мысленно представляла, как он там спит в машине… неудобно, наверное. А могли бы спать вместе и в кровати… хотя я бы тогда с теткой не помирилась… Но все-таки классно было бы сейчас положить голову ему на плечо и обнять поперёк груди. И услышать его сонный вздох и почувствовать, как сам обнимает и прижимает к себе.
И вот в этих мечтах я, утомленная трудовым подвигом, все-таки смогла уснуть.
***
На следующий день нас ждали последний не докопанный кусок делянки и мрачный Огарёв. Которому тетушка внесла кружку с чаем и тарелку с кашей, а он ее многословно и громко благодарил. В пику мне.
А мне было не до него, ибо с утра Тоня успела поблевать. В отсутствие балкона — в ведро. То есть, вот мало мне обмороков, беспричинных слез, орущего Огарёва — теперь еще вот это. Но к десяти часам я вполне пришла в себя и заявила, что готова к трудовым подвигам. И мы пошли.
Мы копали картошку, Огарёв тут же, неподалеку, правил забор и периодически таскал нам ведра. Мое мрачное настроение скрашивало лишь то, что ему тоже выдали калоши. Но не в цветочек, а обычные, черные. Калоши Огарёву шли.
Наконец, была выкопан последний куст и тетка объявила, что идёт топить баню, а меня услала готовить обед. Ярослав Михайлович, убедившись, что опасности в виде ведер больше нет, куда-то слинял вместе со своим «ровером». Я старательно гнала от себя мысли, что он уехал совсем. Да быть такого не может.
***
— Ну что, как мыться пойдем? — тетя стояла на крыльце с переброшенными через плечо полотенцами и простынями. — Кто с Тонькой в баню идет?
Я уставилась на тетушку многозначительным взглядом. Огарёв молчал, глядя себе под ноги.
— Ладно, поняла, — тетя вздохнула. — Тогда мы первые идем, а ты, Славка, после нас.
— Хорошо. Я продукты в дом отнесу?
— Давай.
Оказывается, Огарёв успел съездить за покупками. И скупил половину местного магазина. Ну дневную выручку им сделал точно.
***
После бани меня охватило состояние какого-то дикого отупения. Я под командованием тети разбирала и раскладывала продукты, пока сама тетушка накрывала на стол.
— Надо ж отметить окончание копки картошки, — приговаривала тетя, выставляя на стол разносолы. На плите дотапливались щи, а духовке — картошка с мясом.
А Огарёв поспел как раз вовремя, когда все было готово. У меня даже и мыслей не возникло уже — возмутиться этим фактом. Явился чистый, румяный, с влажными волосами и в клетчатой фланелевой рубашке, которую тетя выдала ему из своих запасов. Тетя эту рубашку брала явно с прицелом, чтобы надевать под нее что-то, для тепла. На Ярославе она сидела в обтяг. Я вспомнила лосины и треснувшую по плечу майку в день нашего знакомства и поняла, что все куда-то замыкается, а я никак не понимаю — куда. Голова изнутри словно намазана стала маслом, и мысли там не задерживались — куда-то соскальзывали.
Мы сели за стол. Тетушка достала из холодильника початую бутылку беленькой, Ярослав отказался. Тетя не слишком расстроилась, сама выпила рюмочку — за успешный сбор урожая — и мы принялись за обед. За обедом тетя рассказывала про свое житье-бытье, про соседей, про Валентину и ее детей, про все деревенские сплетни. Огарёв слушал, поддакивал, задавал вопросы — так, будто ему действительно интересно. Дело дошло до чая. И тут я уронила чашку. Тетину любимую, зелено-фиолетовую, в розы. Тетушка говорила, это еще мамы ее, моей бабушки, получается, была любимая чашка. А я, дура криворукая, ее на пол. И вдребезги. Я смотрела на осколки чашки. Они стали быстро расплываться у меня перед глазами. Я сердито смахнула слёзы, но они все набегали.
— Так! — неожиданно громко раздался теткин голос. — Сил моих нету это все терпеть. Вот ей-богу, сейчас запру вас вдвоём на засов! И не отопру, пока…
— Пока дым белый из трубы не пойдет? — хмыкнул Ярослав.
— Пока вы промеж собой не договоритесь! — рявкнула тетя. А потом подсела ко мне. — Ну не убивайся ты из-за этой чашки, бог с ней. Тонь… — подняла мне лицо за подбородок и посмотрела в глаза. Лицо тетки тоже расплывалось — Ну скажи ты ему. Скажи первая. Сама. Он же не в жисть первый не сообразит. Ну сколько ж можно друг друга мучать?
— Про что сказать-то… — начал Ярослав и замолчал.
А я вдруг поняла. Что права тётя. И надо сказать. И будь что будет.
Я медленно оттерла слеза. Посмотрела на стол, потом повела взглядом дальше, в сторону Ярослава. Пока не увидела его руку, лежащую на скатерти. У него красивая рука. Крупная ладонь, длинные сильные пальцы. На безымянном будет очень красиво смотреться обручальное кольцо.
А дальше я действовала в каком-то помрачнении рассудка. Наверное, во мне снова кто-то проснулся — только я не знаю, кто. Потому что наклонилась и поцеловала Ярославу руку. А потом легла на нее щекой и тихо сказала.
— Я тебя люблю
Повисла тишина. Такая… тихая тишина. Абсолютная. Даже никакая муха не жужжала. Ни крика петуха с улицы. Ни-че-го.
А потом раздался голос Ярослава
— Антонина Петровна, что вы там давеча говорили про «запереть на засов»? Нам… поговорить надо с Тоней надо.
— Запереть, что ли? — послышался чуть сипловатый голос тети. Я лежала щекой на руке Ярослава и ни о чем не думала. Я, кажется, отупела окончательно.
— Заприте.
- Ладно, — скрипнул табурет по полу — видно, тетя встала. — Я запру и к Вале пойду. А ты вот что уразумей, Славка. Девка у нас в положении, поэтому как… разговаривать станешь — ты своим челноком там аккуратнее шуруй, понял?
— Ааа…эээ… понял, — не очень уверенно ответил Ярослав.
— Ну все тогда. Дело за тобой.
Хлопнула дверь. Потом послышался звук запираемого замка. Потом — лязгнул с улицы засов. И снова тишина, но недолгая. Я услышала, как скрипнул табурет под Ярославом. Но руки из-под моей щеки он не убрал, так и обходил стол, наверно, скорчившись в три погибели, пока не добрался до меня. А уж потом ладонь из-под моей щеки вытащил, чтобы подхватить меня на руки.
Табурет под нами жалобно скрипнул, но добротная деревенская деревянная мебель устояла. А Ярослав прижал меня к себе плотнее, отвел волосы от уха и туда, в ухо, меня уведомил.
- Ну, все, краса моя ненаглядная, отбегалась.
Я молчала. И снова тишина. Но не тихая — со звуками. Я слышала, как громко и часто стучит сердце Ярослава прямо под моей щекой. А где-то за окном лаяла соседская собака.
Мы сидели и молчали. Под моей щекой стучало Огаревское сердце, а его рука гладила меня по голове. Но потом молчать мне надоело.
— А ты?
— А что — я?
— Любишь?
— Как дурак.
Вот это заявленьице! Я подняла голову от клетчатой рубашки и посмотрела Ярославу в лицо. Странное у него было лицо. Какое-то… беззащитное. И совсем неузнаваемые глаза.
— Почему как дурак? — тихо спросила я.
— А потому что дурак, — так же тихо ответил он. — Ни делать ничего не могу, ни думать, все кувырком, все как попало. И только про тебя и думаю. Ну разве не дурак?
— Дурак, — согласилась я. — А по-человечески сказать можешь?
— Что сказать?
— Любишь — или нет?!
И он, наконец, улыбнулся и стал немного похож на себя. Зарылся лицом в волосы и едва слышно на ухо сказал. По слогам.