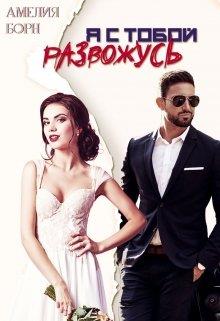– Я не об этом, – рычит Мир. – Что чувствуешь ты?
– Ничего, Мир. Отупение, наверное, наиболее подходящее слово. А еще я хочу тебе счастья. И не смотри на меня так, я правда очень хочу. Ты… мой родной человек. Это ничего не изменит.
– И как, интересно, ты это видишь?
– Я вижу нас отвратительно осознанными мамой и папой, – весело хмыкаю. – Которые сумели переступить через прошлое ради детей и принять выбор друг друга.
– Думаешь, не вернуться ли тебе к Валере? – косится на меня Тарута.
– Мы говорим о тебе.
– А в чем разница?
– В том, что ты видел свое будущее рядом с Леной. А я никогда не видела его с Валерой.
Я вообще не видела его ни с кем, кроме Мира. Но я не стану это озвучивать, в надежде произвести на него впечатление. Тарута изначально был прав. Только такая идиотка, как я, могла надеяться, что мужик сохранит и пронесет через жизнь былые чувства. Спасибо, что у него ко мне осталась хотя бы жалость, благодаря которой я все-таки стану мамой.
Дорога с каждым новым километром становится все хуже и хуже. Часа через два пути мы упираемся в хвост пробки и едем в час, дай бог, если километров сорок. Мир все сильнее хмурится. А у меня начинает ныть низ живота. То, что еще на кладбище ощущалось как редкие и достаточно легкие спазмы, начинает не на шутку пугать. Не желая нервировать еще и Мира, делаю вид, что сплю. Минут через двадцать пробка постепенно рассасывается. И хоть погода не становится лучше, едем мы все же быстрее.
– Вика, что? – в какой-то момент рявкает Мир.
– М-м-м?
– Если хочешь в туалет – так и скажи. Нет же, сидишь, ерзаешь.
– Дело не в этом.
– А в чем?
– Живот тянет.
– Сильно? – косится на меня Мир.
– Прилично. Да…
– Так и знал, что ты допрыгаешься!
Меня окатывает волной жгучей обиды. Что значит «допрыгаешься»? Что я такого делала, интересно? Или, по его мнению, мне не нужно было ехать к родному отцу на похороны? А может, я должна была бросить его в больнице?
Чтобы не сказать в ответ того, о чем потом пожалею, стискиваю посильнее зубы и отворачиваюсь к окну. В салоне достаточно тепло, но меня все равно начинает знобить. Страх – он такой… зябкий.
– Вик, не молчи.
– Не знаю, что ты хочешь услышать.
– Как ты себя чувствуешь?
Мир машинально тянется к бардачку за сигаретами, но вспомнив о вреде пассивного курения, чертыхаясь, отбрасывает пачку. А я… Я, кажется, знаю, почему он распсиховался. Больше всего в этой жизни Мир ненавидит ситуации, заставляющие его чувствовать собственную беспомощность.
– Спазмы не стихают. Думаю, будет лучше, если ты отвезешь меня в больницу.
Отрывисто кивнув, Мир притапливает. А еще минут через пять, не выдержав, набирает по громкой моего лечащего врача. Я к этому моменту впадаю в такую дикую панику, что едва ворочаю языком, когда та успокаивающим голосом просит меня описать свои жалобы. К ерзанью добавляется бесконечное мельтешение рук. Я то запястье растираю, то кресло мну, то зарываюсь пальцами в волосы, дергая их так, что на глазах выступают слезы.
– А кровянистые выделения?
– М-м-м?
– Есть ли кровянистые выделения?
– Я не знаю, – шепчу. – И не могу проверить. Мы в пути. Да и что это изменит?
– Вик, просто посмотри, – вмешивается Тарута.
– Это ничего не изменит! – ору. – Мы посреди гребаной трассы!
– Мы вам перезвоним, если что-то выясним, – чеканит Мир, обрывая связь. Дыша, как загнанное животное, кошусь на его руки, с силой сжавшие руль.
– Почему так? – сиплю.
– Прекрати. Не сдавайся, слышишь? Ничего еще не случилось!
Еще нет. Но я же чувствую, нет, я знаю, что случится. За что? За то, что я дерзнула попытаться построить счастье на осколках чужого?
– Может, они чувствуют, что ты их не хочешь?
– Кто тебе это сказал?! Какого хуя, Вика?!
– А что, я ошибаюсь?
– Да! Ужасно ошибаешься. Ты слышишь?!
– Слышу!
– Хорошо. А теперь возьми себя в руки и перестань трястись. Так ты делаешь только хуже.
– Я этого не контролирую! – повторяю в который раз.
– Контролирую я! Успокойся! Сейчас же. Я тебе когда-нибудь врал?
– Столько раз! – смеюсь сквозь слезы, некстати вспомнив его обещания завязать со своими командировками.
– В этот раз я говорю правду. Все будет хорошо, Вик. Слышишь? Я рядом. Все будет хорошо, малышка.
Не отрывая взгляда от белеющей ленты трассы, Мир перехватывает мою ладонь и переплетает наши пальцы. На контрасте с моими ледяными его руки кажутся ненормально горячими. Я впитываю их тепло, его жизненную энергию… Я и впрямь практически не трясусь, поймав странный дзен. И потому отчетливо улавливаю тот момент, когда из меня что-то вытекает…
– Нет… – шепчу.
– Что, Вик?
– Нет! Только не это. Пожалуйста…
И пофиг мне уже на стеснение. Извернувшись ужом, стаскиваю с себя штаны вместе с бельем. Включаю долбаную подсветку. Смотрю вниз. В ужасе зажмуриваюсь и медленно поднимаю ресницы, ловя диковатый взгляд Мира. А дальше… Дальше я толком ничего и не помню. Кажется, он сказал, что до больницы осталось каких-то семь километров. Только что это меняет?
Когда мы подъезжаем к нужному корпусу, нас уже ожидает бригада врачей. Мир вытаскивает меня из салона, будто я ничего не вешу, усаживает в инвалидное кресло и не отходит все время, пока длится осмотр. Кажется, у него звонит телефон. Но Тарута не отвечает и, наверное, ставит тот на бесшумный, потому что потом я не слышу никаких посторонних звуков, кроме писка приборов и стука одного крохотного сердечка.
– … вы меня слышите, Вика? С девочкой все хорошо. Конечно, вам придется провести какое-то время в стационаре, пока риск сохраняется, но…
Бла-бла-бла… С девочкой. Это же значит, что наш сын погиб?
Вцепившись в руку Мира, ловлю его странный нечитаемый взгляд. Он смотрит так… давяще, так невозможно давяще, боже!
– Прости… – шепчу я, слизывая с губ катящиеся по лицу слезы. – Прости, что тебя в это втянула. Что не смогла по-другому, да. Только так, эгоистично. Прости, что тебе пришлось пройти через это.
– Глупости, малышка. Слышишь? Заканчивай убиваться. Подумай о нашей дочке, да? Нам ее беречь нужно.
– Да…
Да! Но я не могу сосредоточиться на этом, как бы он не просил. Мысли невольно утекают к погибшему сыну. Как же так? Почему? Он был такой сильный, такой красивый… Как папа. Я же его видела, я слышала, как бьется его сердечко. И считала пальчики на снимке УЗИ, который для нас заботливо распечатали.
– Вика!
– Уйди!
– Соберись, пожалуйста, малышка. Я знаю, что это нелегко, понимаю, но ты должна, слышишь?
– Знаешь? Ты? Да вы же со своей Леной спали и видели, чтобы это случилось! Ну, ты доволен? Теперь доволен?! – визжу я как бесноватая. Не думая о том, насколько это несправедливо, просто тупо не справляясь с болью. Круша все и вся на своем пути… Ничего не оставляя. Выжигая напалмом ненависти.
Кажется, мне вкалывают успокоительное. Потому что я, во-первых, ничего больше не помню, а во-вторых, умудряюсь уснуть. И сплю так сладко, что пришедшему на обход врачу приходится постараться, чтобы меня разбудить.
– Все хорошо. Вы, главное, не волнуйтесь. Процент выживаемости второго плода довольно высок. Мы уже обсудили это с вашим мужем…
– У меня нет мужа. У меня никого вообще нет, – шепчу я и, чтобы уж поставить точку в этом невыносимо изматывающем разговоре, произношу: – Это все? Тогда я вернусь в кровать.
Растерянный доктор кивает. А я, как и сказала, укладываюсь, накрываясь с головой одеялом.
– У тебя есть я. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, – слышу за спиной некоторое время спустя.
Глава 24
Новый год я встречаю в опустевшей больнице. Все, кто могли, разъехались по домам, чтобы провести новогоднюю ночь с родными и близкими, а меня не отпускают. Слишком мало времени прошло с момента гибели моего мальчика – меньше суток. А значит, еще сохраняется риск для второго плода. Тут уж не до собственных хотелок и праздников… Настроение вообще не то. Многочисленные поздравления, сыплющиеся на телефон как мусор, выглядят чистой насмешкой. Особенно потому, что поздравляют меня в основном заказчики и деловые партнеры. Из близких – объявляется лишь Наташка. Но я не говорю ей о том, где нахожусь и почему, чтобы еще ей не испортить праздник.