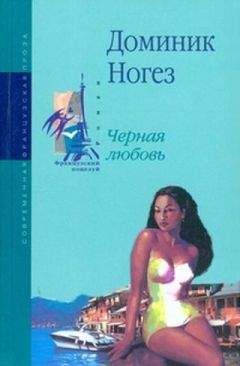Это было относительное одиночество: потом она говорила о «сукином сыне», который ей «помыкал», «не давал ей свободно вздохнуть», следил за ней и все время подозрительно расспрашивал. Может, это был тот мужчина в мехах. Но хотя в своей искренности она бывала грубовата и даже жестока (она благодарила меня за «чувство уверенности», значит, видела во мне скорее покровителя, наставника, даже банкира или «психиатра», но не любовника! А выражение солдата или зэка, которым она воспользовалась, говоря о нашем прошлом — мы «больше года вместе оттрубили»!..) — все это меня трогало. Даже неловкость ее речи говорила о ее искренности. Да и голос ее — умиротворенный, грудной, медленный, голос женщины, подводящей итоги прожитой жизни и принимающей новые решения — успокаивал меня, но и бесконечно волновал. Конечно, по простой небрежности или прежней любви к тайнам она не оставила номера телефона. В «Карибу» мне отвечали, что о ней ничего не известно; к тому же ее уже заменили. Я еще сутки грыз удила, а потом, вернувшись домой, увидел, что она с чемоданами сидит перед дверью.
И начался один из самых неопределенных периодов в моей жизни. Он еще слишком близок, чтобы я мог его проанализировать. Счастье и несчастье сменяли друг друга, сталкивались, а вскоре смешались, как в землетрясение: экстаз, сменяющийся утоплением или электрошоком. Летиция и изменилась и осталась той же — изменилась одновременно к лучшему и худшему. Она была более любящей, когда любила, но более агрессивной, когда начинала беситься. Конечно, на какое-то время ее приступы ярости стали реже, но побеги или, по крайней мере, периоды отсутствия возобновились. Да, она отсутствовала, даже когда возвращалась домой. Она вбила себе в голову продюсировать рэп-группы, клипы, новые арабо-индийские ритмы — знаменитые ее планы. Вскоре она перестала со мной разговаривать. Впрочем, хотя я и предпринимал вначале усилия и даже собирался работать вместе с ней, в частности снимать фильмы, мир шоу-бизнеса оставался для меня непроницаемым и глубоко мне несимпатичным. Она жила своей жизнью, получала, не знаю откуда, астрономические суммы, которые теряла сразу же. Череда успехов и провалов. До тех пор, пока…
Недавно, проезжая через Солонь, я не мог не вспомнить о ней. От берегов Шера до Роморантена лес иногда подступал к самой обочине дороги. Аллеи, обсаженные буками или высокими соснами, вели к уединенным домикам, некоторые из них, с высокими соломенными или черепичными крышами, были очаровательны — почти что дворянские усадьбы. Вот где жилось бы хорошо! Двенадцать лет назад, еще в прошлом году, я мечтал уединиться с Лэ в одном из таких.
Потом я ехал по лесам, милым розовым лесам — розовым от кустиков вереска, которые покрывали лужайки, как туман или легкое сияние, и росли под соснами, тополями, березами, на берегу небольших прудов — и как бы вновь пережил наши прогулки в лесу Фонтенбло или Монтаржи, когда мы еще делали какие-то попытки отыскать дом, где нашла бы приют наша любовь. Стояла такая жара, что мы обходились почти без одежды. Иногда мы ложились в заросли папоротника, даже не обнимаясь — просто лежали бок о бок, наблюдая за движением жучка или полетом птицы в переплетении веток.
Любопытно все же, как наш роман был связан — отрицательно — с идеей дома. Дома для нее, который я так и не нашел, ни в окрестностях Парижа, нигде еще, или дома в Биаррице, который я не смог принести в жертву ради ее прекрасных глаз в последнее лето, когда ей понадобились деньги, чтобы спасти ее фирму. Но как я мог продать этот дом? Это был не только дом моих родителей, моего отрочества, того времени, когда Жером и Элоди были для меня самой жизнью — там я всегда восстанавливал силы. Опять же, благодаря этому дому мне удалось пережить трагедию прошлого лета, собрать себя по осколкам, мало-помалу вырваться из депрессии.
Но если бы ты продал его, нашептывает мне внутренний голос, тебе бы не пришлось «выживать», не случилось бы ни разрыва, ни депрессии. На самом деле ты стоял перед выбором: порвать с родными, с прошлым, чтобы выбрать новую жизнь, новый мир — мир иммигрантов или приезжих из заморских департаментов Франции, «цветных», парий или почти парий, того самого третьего или четвертого мира, который и есть настоящий герой — разрушительно-неловкий и невезучий — этого конца века; мир, который вскоре станет единственным миром, настоящим будущим. И ты спасовал перед этим решением, хотя оно одно было совместимо с индивидуалистичным и революционным духом, волей к граничащей с самопожертвованием храбрости, которые воодушевляли тебя, когда ты был моложе. Ты не сделал этот прыжок, который был бы единственным подлинным доказательством любви, которое ты мог ей дать, если любовь действительно требует потерять себя, чтобы полностью слиться с жизнью другого человека в надежде на большее счастье, но и с риском более ужасного бедствия:
И Федра с вами в лабиринт сойдет,
Вернется с вами или смерть найдет.
Я был слишком осторожен, слишком глубоко укоренен, слишком укутан в свои воспоминания и книги. «Кто хочет спасти свою жизнь, расстанется с ней». Ты расстался с ней. Ты потерял — кто знает? — годы счастья.
Что помешало мне продать квартиру моих родителей в Биаррице после того, как они навсегда покинули ее и она стала не более чем слишком просторным пристанищем холостяка. Возможно, это было почти животное пристрастие к одиноким убежищам — деревья, хижины, землянки, крепости — восходящее к детским играм в Робинзона. И если этот выбор стал, как я уже сказал, косвенной причиной ухода Летиции и конца нашей любви, это значит, что Робинзон в моей душе окончательно и безоговорочно взял верх над Ромео.
Но Робинзон не безоговорочно приговорен к одиночеству. Даже если не вспоминать о «швейцарском Робинзоне» с женой и четырьмя сыновьями — есть Пятница. Из Летиции бы получился вполне приемлемый Пятница — хотя, не придерживаясь сюжета, она сама, без сомнения, превратила Робинзона в раба. Впрочем, если выбирать ей имя в честь дня недели, я бы назвал ее Воскресенье. Она была и была бы до сих пор, если бы осталась рядом со мной, самой прекрасной моей причиной жить вдали от людей — все человечество в одном лице. Но я говорю — как Альцест! — Леа не лучше Селимены вынесла бы жизнь в мире, сведенном к двум существам. Лишь при сильнейшей страсти, страсти убийственной, можно выдержать этот разреженный воздух, не позволяющий оторваться от губ другого, чтобы вдыхать лишь его дыхание — в каком-то смысле через его бронхи.
Но нет. Страсть может и не быть удушающей. Кто-то — точнее Ален Финкелькраут — написал книгу под прекраснейшим названием «Мудрость любви». Я всегда считал — хотя и не имел случая в этом убедиться — что страстная влюбленность может проникнуться мудростью. Прежде всего, дав себе то, чего больше всего не хватает страсти — время. Однако у нее может быть время, только если у нее есть пространство. Хорошо темперированная страсть — если это не утопия, столь же невообразимая, как союз воды и огня, — страсть, умеющая хитрить с собой, сдерживаться, чтобы дольше длиться, предполагает между любовниками расстояние, часто представляющуюся возможность вести отдельную жизнь. Но отдельную при близости, с возможностью опять встретиться, как только этого пожелаешь. Вот почему, как я уже сказал выше, я всегда представлял дом, в котором мне хотелось бы жить с Лэ в Солони, на Мартинике или в других краях, очень большим — еще больше дома в Биаррице. Иногда я предавался и более безумным мечтам.