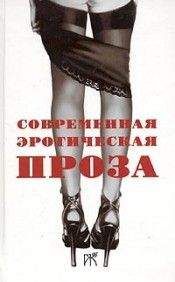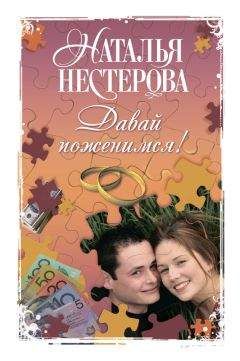Уже потом, в больнице скорой помощи, мне рассказали, что там произошло. Оказывается, кто-то из братцев-яхтсменов откопал в металлоломе старинную бронзовую пушчонку, снятую со старинного судна, и решили ее приспособить под традиционный полдневный выстрел, вроде как на Петропавловке. Да не учли свойства нынешнего бездымного пороха, просчитались, переложили заряд. Ну, пушечку и разорвало, вдобавок вместе с деревянным самодельным лафетом. Женщине, которая так страшно вопила, ногу почти что по пах оторвало, а меня осколком по бедру хватило, немного выше колена…
А я, как упала, от боли сознание почти совсем потеряла, какие-то обрывки голосов вроде бы слышу, а смысла не понимаю, в голове все плывет, слова — как сквозь вату.
«Жгут надо… срочно. А то кровью истечет. „Скорая“ еще когда будет. У нее, может, бедренная артерия задета… Давай, помоги…»
И тут, хоть я и в бессознанке, а бабьим свои чутьем поняла, что с меня, извините, брюки стаскивают! Кстати, как позже выяснилось, порванные напрочь. Я было взбрыкнула, а удивительно спокойный, вроде как холодный компресс на лоб, голос и говорит:
— Да вас же не еб…, не шелестите ногами…
От такого нестерпимого нахальства я даже глаза открыла. Надо мной склонился тот самый викинг с правого фланга, с усами, только без флага и голый по пояс, потому как в руках он держал рукав, оторванный от своей белой рубашки.
Перетянул он мне бедро, а я еще успела про себя подумать — вот ведь, баба — она и есть баба! — слава Богу, мол, что у меня нет месячных, и на мне кстати оказались симпатичные шелковые трусишки… Я глаза свои, покрытые мутной пленкой, как на переводной картинке, сфокусировала на его широченной груди, поросшей курчавыми завитушками, словно на обширном лобке, честное слово и… в полном смысле слова полностью отключилась. Видимо, выражаясь изысканно-старомодно, я упала в обморок.
Красиво, а?
Хотя, конечно, не упала, ибо уже лежала. А этот самый мужик, который с усами и волосатой грудью, меня на руки легонько этак принял и самолично до «скорой» помощи донес. А я, конечно, не будь дура, его за шею обняла — и ведь без сознания! — прижалась, как тонкая рябина к дубу. Ну, — как в песне поется… А что мне еще оставалось делать?!
Из больницы он меня тоже на руках вынес. Даже разрешения не спросил. Подхватил — и все, так с третьего этажа и донес до своего «жигуленка». Правда, потом выяснилось, что это — не такой уж подвиг Геракла, потому как по размерам мы составляли очень даже контрастную пару: моя голова как раз доставала ему до подмышки…
А вот шрам на бедре остался. Ложбинка такая неровная, сантиметров с десять длиной, словно бы из меня кусок мяса вырвали. Правда, под шортами незаметно… А Саша любил этот шрамище гладить, нежно, едва касаясь, скользить по нему пальцами или целовать. И еще приговаривал при этом: «Это он, шрамик мой золотой, нас сосватал!»
Все мы с ним делали вместе. Он на яхте — я матрос, он на лыжах (зимою он слаломом занимался), я — рядом в сугробе барахтаюсь, он в поход на Вуоксу, на плотах или на байдарках, я — оранжевый спасжилет примеряю. И Ольгу всюду с собой таскал: в старом заслуженном рюкзаке две дырки для ног проделал, дочь — в рюкзак, за плечи — и готово!
Ольга-то теперь замужем, живет в Швеции, программист, двое детей-близняшек. Что я ей скажу!?
Первая неделя истекла…
Именно так — не прошла, не пробежала, не промчалась, а истекла, не принеся никаких надежд. Протекла — вот как вода между пальцами, когда моешь посуду, не замечая, что уже в третий или пятый раз протираешь губкой чистую тарелку; протекла злыми и беспомощными слезами, которые текут и их не унять, и понимаешь, что слезами горю не поможешь, — а они все равно текут и текут… И откуда в человеке помещается столько слез?!
…Саша уже и не вставал, все лежал на тахте, чуть повернув голову к окну: просил не задергивать штору. И почти ничего не ел. Я на работе две недели за свой счет взяла — за ним ходить. Судя по всему, боли у него были сильными, чтоб не сказать — чудовищными, он часто ночами не то стонал, не то мычал, стиснув зубы так, что они скрипели.
Терпел…
Я на последние деньги достала, — подпольно, разумеется, несколько ампул морфийсодержащего, сама ему делала уколы в ягодицы, когда, чувствовала, что ему совсем уж невмоготу. Теперь его завитки-завитушки на груди совсем поседели… Он-то терпел, надеялся, не хотел меня огорчать, а я… Я-то ведь знала, что ему остается совсем ничего… и две недели старалась улыбаться, только чтобы не заплакать при нем. Даже к зеркалу не подходила, — не могла свое лицо видеть. Чужое и страшное.
А в тот вечер… Серый такой был денёк, помню, без солнца, фонари на улице рано зажглись, а он лежал вверх лицом, и в его глазах, я это ощущала, скопились и боль, и понимание своего конца, ухода, и прощание, и прощение… Все вместе.
И вдруг… Он мою руку слабо так… пожал и вполне отчетливо, осмысленно даже, и я бы сказала — с вызовом, прошептал вроде бы полушутя, но я-то поняла, что всерьез:
— Без секса не умру…
Я признаюсь… насчет постели. Поверите, нет, — когда он раздевался и меня к себе принимал, — у меня внутри все плыло и, казалось, я сознание теряю, как тогда — в тот самый полдень, когда меня бронзовым осколком шарахнуло… И от этих его слов я совсем уж ополоумела, кинулась туда, сюда, — не знала, что делать, что ответить. Наконец решилась.
Из шкафа, с самого низу достала черное кружевное французское белье, доро-гу-щее, я его всего-то раза три надевала. Потом чулки тоже черные, с широкой резинкой — он колготки не слишком жаловал. Лифчик застегиваю, дура, а у самой руки трясутся, замочек выскальзывает, а слезы кап-кап-кап — то на грудь, то на пол…
Села рядышком. Одеяло плоско так натянуто, будто под ним ничего нет, откинула его, прилегла рядышком, прижалась… Его руку взяла, а она словно бы бескостная, мягкая, вялая, и его рукой стала себя оглаживать: на грудь положила, на живот… И на тот самый шрам… Пальцы задержала, раз провела, другой, — словно бы его память оживляю! Потом ладонь — а ладонь у него широченная, как садовая лопата, — на лобок положила, замерла… А он родное место, видимо, почуял, и у него пальцы слабо этак шевельнулись, будто погладить пытались, приласкать…
Я опять слезы утерла, чтоб он не заметил, и стала с него трусы стягивать: он хоть и похудел чуть ли не в половину, а все равно — огромный, я его с трудом приподымаю. Глянула ему в глаза, а он — реагирует, ну вот самое честное слово — реагирует, искорки бегают. Ну, я его бывшее мужское достоинство потеребила, поцеловала… Как в старом анекдоте: «Когда-то эта тряпочка была гордостью Одессы!» Наконец, губами взяла, головку ласкаю, покусываю. Чувствую — дрогнул, воспрял, окреп, ну прямо как в былые молодые годы! А на меня взобраться сил-то у него нет…